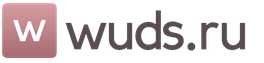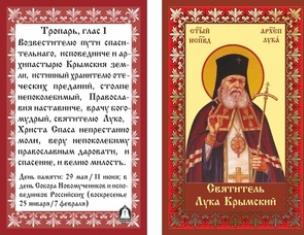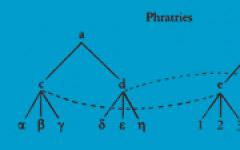До начала войны я плохо представлял себе Россию, об Украине же вообще ничего не знал. У нас тогда о русских, украинцах не было и речи – войну вели против большевиков. Мы были отменно мотивированы, старания послужить на благо Отечества хоть отбавляй, трудностей, опасностей не боялись. И все же, стоило мне узнать немного страну, где пришлось воевать, сомнение – а хватит ли у нас сил выиграть эту войну? – появилось помимо воли. Здесь все давалось трудней, чем в Европе. Расстояния, погода, дороги, язык. Ремонтники, обоз безнадежно отставали – нам приходилось бросать пушки из-за мелких поломок. Не один я засомневался, были и такие, кто с самого начала не верил в успех – вслух такое, конечно, не говорилось, но можно было догадаться.В 1937 – 1938, по окончанию школы, отработал год в муниципальном управлении Дойцена. Круг моих обязанностей был широк, начиная с налогов и вплоть до редактирования местной хроники. Здесь завязался роман с будущей женой. С ней был знаком с детства, но сблизились мы именно тогда, во время общей работы в местном управлении.
Одним из любимых развлечений моей беззаботной юности были походы. С лучшим другом – с ним я сидел четыре года за одной партой, он был в то время камерадшафтсфюрером в Гитлерюгенде – и другими ребятами бродили по Саксонии. Без какой-либо цели, так просто. Жили в палатках, готовили на костре. И еще было много спорта, чего сейчас так не хватает. Состоял членом местного спортивного общества (Turnverein), занимался легкой атлетикой: бег на 200 и 100 метров, прыжки в длину.
Как относились родители к национал-социалистам?
Мой отец являлся попутчиком, за это его коммунисты в 1945 году выгнали с работы, конфисковав шестьдесят тысяч марок – все семейные сбережения, как якобы нажитые за счет военнопленных и цвангсарбайтеров – полная ерунда! Не знаю, сколько там было принудительных рабочих, но отец кормил не их одних, а всех занятых на производстве. Впрочем, спустя короткое время он был вновь призван: среди коммунистов не нашлось ни одного толкового, способного поставить дело – это не речи произносить. Так он сохранил место и при новой власти. Ему пришлось много быть в разъездах, восстанавливая прерванные после войны связи. В одну из таких поездок на какую-то пивоварню он погиб, попав на мотоцикле в ДТП. Это случилось в 1949 году, перед самым Рождеством.
Что значит «попутчик»?
Политика интересовала отца в последнюю очередь, но для людей с более-менее солидным положением членство в партии являлось не лишним, если не почти обязательным – а разве в ГДР было по другому? Вот он и состоял в НСДАП, платил взносы. В этом он был, как все. Слышишь сейчас рассуждения о том времени – можно подумать, половина немцев относилась к противникам национал-социализма. Все это ложь. Гитлера любили, он был необыкновенно популярен в народе. В особенности, женщины его боготворили. Гитлер покончил с безработицей и сделано это было до войны. Он выступал за пересмотр Версальского договора – каждый думал тогда, с этим свинством должно быть покончено.
Как-то раз прошел слух, Гитлер поедет по нашей ветке из Лейпцига в Мюнхен. Весь Дойцен от мала до велика вышел на вокзал – всенародный праздник. Когда поезд показался, что тут началось! Люди, выкрикивая приветствия, махали руками, как сумасшедшие, плакали. Гитлера никто так и не увидел – неважно, все были счастливы: ОН побывал в наших местах. А сегодня? Да кто бы из нынешних ни проехал, разве хоть один пойдет встречать поезд? Какое там...
В вермахт я пошел добровольно: хотелось отслужить поскорее. То, что разразится война и служба растянется на долгие годы в то время никому, и мне тоже, в голову не приходило. Первой ступенью к воинской службе была Имперская служба труда (RAD), в нее меня призвали 4 апреля 1938 года. Службу проходил в части 3/83 в Вирхензее под Франкфуртом-на-Одере.
Безусловно, RAD была разумным учреждением: молодежь отвлекали от улицы, она была занята общественно-полезным трудом. В Вирхензее мы работали в гидромелиорации, занимались осушением болот. Вторым заданием для нас являлся сбор сосновой смолы, использовавшейся в химической промышленности. Для этого стволы сосен специальными ножами надрезались елочкой, после обработки они напоминали рыбью кость. Параллельно мы проходили начальную воинскую подготовку, но это было поставлено не очень. Большое внимание уделялось спорту.
Обычно служба в RAD ограничивалась шестью месяцами, нас, однако, в связи с половодьем, задержали на месяц. Мы были задействованы на уборке картошки под Франкфуртом. Поля на 30 – 40 см покрывала вода. Помогали спасти урожай – тоже полезное дело.
Кем были в RAD? Форманом?
Нет, простым арбайтсманом. Правда, поскольку я умел печатать на машинке и стенографировать, меня чаще использовали в штабе, чем на других работах. Пока ребят гоняли, перепечатывал отчеты. Командиром у нас был оберстфельдмайстер Конопка из Беескова. Его я случайно встретил зимой 1943 года под Изюмом, на Украине. Нас было трое, вырвавшихся из окружения. Убегали огородами, по нам стреляли. Уже во время бегства погиб от пули еще один, фельдфебель. В итоге остались вдвоем. Выручило то, что русские, преследовавшие нас, в поисках съестного увлеклись грабежом нашего обоза. Пока они рылись в повозке, расбрасывая вещи во все стороны, нам удалось спастись. Едва добрался до своих – кто-то хлопает по плечу: «Кюн, что Вы здесь делаете?» – Конопка. Я его не узнал. Я тогда и родную мать не смог бы узнать. Настолько был измучен. Весь в поту, как свинья. В глазах плыло.
25 октября 1938 года окончилась моя служба в RAD, а уже 18 ноября я надел солдатскую форму. Службу проходил в паре километров от дома, в Борне – раньше там находилась большая казарма, теперь это здание перестроили, выглядит иначе – , в противотанковом дивизионе 24, меня определили во вторую роту. Здесь нас учили на 37мм противотанковых пушках. Тогда они представлялись нам грозным оружием, позднее, на фронте, знаете, как мы их называли? – «Panzer-Abklopfgeraet» («Орудие для постукивания по танку » – игра слов: противотанковая пушка, по-немецки, «Panzer-Abwehr-Kanone», сокращенно – Pak). Немецкая разведка проспала появление у русских танка Т-34, 37мм-пушка не пробивала даже его кормовую броню, наши снаряды отскакивали от нее, как горох.
На стрельбы нас вывозили в Кенигсбрюк под Дрезденом. Сколько стреляли боевыми снарядами вспомнить точно уже не смогу, но немало. В Борне осуществлялось теоретическое обучение, тренировались в заряжании, используя учебные снаряды, и прямой наводке орудий. По команде все расчеты бросались к пушкам и наводили их на цель-картонный макет танка с нарисованной мишенью. Кто раньше всех справлялся – получал, порой, три дня дополнительного отпуска. Помню, как веселились, рассказывая о похождениях в увольнении. Ощущение, что нас готовят для серьезного дела, совершенно отсутствовало. Обучение воспринимали как забаву. Казалось занятным немножко поиграть в войну. Все же, в сравнении с новобранцами военного времени, особенно последних призывов, нас подготовили прекрасно. Те вообще ничего не могли, о механизме наводки ни малейшего понятия.
В марте 1939 года нас, еще новобранцев, внезапно перевели в Прагу, мы вошли в состав оккупационных сил. Жили в самом центре, на Венцельсплатц (Вацлавская площадь), в казарме, носившей имя Масарика, первого чешского президента. Увольнений не отменяли, но покидать казарму в одиночку запрещалось: нам объявили, что из Молдау (Влтава) вылавливали трупы немецких солдат, убитых чехами. У нас, однако, каких-либо сложностей с местным населением не возникало. Проблемы с чехами начались потом, в самом конце и после войны. Нашей задачей был сбор трофейного чешского оружия, его мы грузили в вагоны в Миловице. Куда оно потом шло – не знаю. Вернувшись домой, завершили обучение по военной специальности, а, вскоре, началась польская кампания.
Как восприняли начало войны?
С досадой: собирался вернуться домой. Меня ожидали подруга, работа по специальности. Были уже тогда планы женитьбы. Теперь все приходилось отложить.
Это нисколько не означало, что я был против самой войны. У стран-победительниц в Первой мировой, наживавшихся на репарациях из Германии, имелись все возможности предотвратить ее. Достаточно было согласия на ревизию Версальского договора. Они на это не пошли – нам оставалось лишь одно: отстоять свои права с оружием в руках. Другого выхода не было.
Когда началась война, думали, что она столько продлится?
Нет, какое там... Мы с женой были помолвлены в начале войны, собирались пожениться в 1942 году. Перенесли свадьбу на год в полной уверенности, что война к тому времени уж точно завершится. Но она все не кончалась. В итоге, мы, устав ждать, поженились в 1944 году, но и тогда до конца было еще далеко.
На границу с Польшей нас перекинули еще до начала боевых действий. Помню, в нашу задачу входило наблюдение за передвижениями войск и транспорта по ту сторону границы. «Крещение огнем» получил под Ломжей, это в районе Белостока. Здесь шли бои за переправу через Нарев. А в октябре, в Брест-Литовске, заработал свой первый Железный крест – не я один, товарищи тоже получили награды. Наша задача состояла в поддержке пехоты. Требовалось уничтожить польское орудие, державшее под обстрелом дорогу на Брест, по ней шли в наступление наши войска. Позицию заняли на железнодорожной насыпи, вырыв окопы для расчета. Они нам здорово пригодились: из крепости в нас стреляли по прямой наводке, беспрестанно пытались достать пулеметным огнем – приходилось то и дело нырять в окоп, спасаясь от пуль. Тогда же впервые увидел убитых товарищей. С непривычки испытал сильный шок. До сих пор помню, это произошло 16 сентября 1939 года – в тот день нас изрядно потрепали. Среди павших находился и командир взвода лейтенант Радтке – первый в списке безвозвратных потерь офицерского состава нашей роты.
Так мы провоевали, в общей сложности, три дня, пока сопротивление защитников Бреста не было сломлено. После взятия крепости обнаружилось, мы вывели из строя не одно, а три или четыре орудия, сколько точно – уже не знаю. Поляки оттаскивали разбитые пушки в сторону, заменяя неповрежденными. На третий день из крепости больше не стреляли – путь для пехоты был свободен. На нашем участке это явилось решающим прорывом.
По окончании кампании мы остались в Польше в составе оккупационной армии. Я, впрочем, ненадолго: меня произвели в фельдфебели, был направлен в офицерскую школу (Waffenschule) в Берлине – война с Францией обошла меня поэтому стороной. К своим возвратился уже лейтенантом.
Война с Советским Союзом, насколько неожиданным явилось ее объявление?
Довольно неожиданным, но я на эту тему недолго задумывался. Солдату, ведь, что... приказали – он пошел. Лозунг в то время был – война с большевиками. Его не приходилось объяснять: всем известно, какое свинство вытворяли красные в своей собственной стране. Так, что особенно голову не ломал.
Воевать пришлось почти все время на Украине. Еще до начала польской кампании нашу вторую роту изъяли из 24-го дивизиона, передав 10-й танковой дивизии (группа армий Север, XIX армейский корпус). Затем все время были на подхвате, направляли туда-сюда, придавали разным дивизиям, армиям, так, что в одной, 16й армии, с родной частью мне пришлось повоевать лишь короткое время, да и то я в тогда об этом не знал, выяснилось уже много лет спустя. Все дальнейшие перемещения происходили, однако, в рамках группы армий Юг. Лишь в самом конце войны, проделав отступление через Румынию и Венгрию, оказался в Мемеле. До капитуляции повоевал в Курляндии (Латвия) в составе 16-й армии, группа армий Север.
Вот краткая история моей солдатской жизни, составленная по записям в военном билете (Wehrpass), графа «активная служба», куда заносились, в том числе, данные об «участии в боях, битвах и операциях во время войны»:
15.3. – конец апреля 1939 г. охранение Богемии-Моравии/Судетская область
7.9. – 8.9.1939 г. бои у Ломжи
8.9. – 10.9.1939 г. прорыв укреплений к востоку от Визны
14.9. – 17.9.1939 г. взятие крепости Брест-Литовск
26.10.1940 – 21.6.1941 охранение генерал-губернаторства
9.8. – 20.8.1941 наступление через Пшемысль на Лемберг (Львов), дальше через Ново-Украинку на Кременчуг
21.8. – 7.9.1941 охранение на Днепре у Кременчуга
8.9. – 12.9.1941 форсирование днепровской переправы, взятие Кременчуга
13.9. – 23.9.1941 сражение в районе к востоку от Киева
(13.9. – 16.9.1941) расширение кременчугского плацдарма и преследование (противника) до блокирования в низовье Сулы
(17.9. – 23.9.1941) ликвидация котла в междуречьи Сулы и Оржицы
24.9. – 5.10.1941 наступление через Полтаву на Красноград, бои с отступающим противником
6.10. – 9.11.1941 прорыв и преследование в направлении среднего Донца
(6.10. – 7.10.1941) атака на Берестовую
(10.10. – 19.10.1941) завоевание плацдарма в районе Орели / Орельки и взятие Краснопавловки
(20.10. – 9.11.1941) наступление к Донцу
10.11.1941 – 17.1.1942 оборонительные бои в бассейне Донца
18.1.– 7.4.1942 оборонительное сражение в бассейне Донца
(18.1. – 29.1.1942) оборонительные бои в районе Славянск – Изюм – Барвенково
(30.1. – 7.4.1942) оборонительные бои у Славянска
8.4 – 16.5.1942 весенние оборонительные бои в бассейне Донца и у Сухого Торца
17.5. – 27.5.1942 ликвидация барвенковского котла
(17.5. – 20.5.1942) прорыв вражеской позиции у Славянска к Донцу на юг от Изюма
(21.5. – 27.5.1942) охранение на Донце, оборонительные бои в районе к югу от Изюма
28.5. – 21.6.1942 оборонительные бои в районе к югу от Изюма
22.6. – 31.7.1942 охранение оперативного района
Начало августа 1942 отпуск/ параллельно вывод части на отдых и переформирование в Шалон-на-Марне, Франция
15.8. – 31.8.1942 охранение демаркационной линии
1.9.1942 – 2.1.1943 береговое охранение французского побережья Атлантического океана
17.1. – 31.3.1943 передислокация в Валуйки на Осколе / зимнее сражение в районе Изюма (Лавы – Курск – Обоянь)
1.4. – 31.05.1943 отдых и переформирование на русско-украинской границе
1.6. – 30.6.1943 оборонительные бои у Кондратьевки и в районе Сергеевка – Кобылки – Ленина / борьба с бандитами
1.7. – 31.11.1943 записи отсутствуют
1.11. – 31.12.1943 оборонительные бои на днепровской позиции и в районе Киев – Житомир – Коростень
1.1. – 28.4.1944 оборонительные бои на среднем течении Буга и в районе Каменец-Подольска
29.4. – 22.7.1944 переобучение на родине на легких 38-тонных истребителях танков
23.7. – 31.8.1944 оборонительные бои в Литве на участке 3-й танковой армии
1.9.1944 – 8.5.1945 бои в Курляндии в составе группы армий Норд
Курляндские сражения:
27.10. – 7.11.1944
19.11 – 25.11.1944
21.12. – 31.12.1944
23.1. – 3.2.1945
15.2. – 13.3.1945
17.3. – 3.4.1945
Конкретно по каждому эпизоду мне говорить сегодня трудно: очень многое стерлось из памяти. Сохранилось что-то вроде калейдоскопа несвязанных между собой впечатлений и случаев – где, когда они произошли, уже не могу вспомнить. Говорю так не потому, что мне есть, что скрывать. Если бы за мной числились какие-то преступления – не вернулся бы из плена. Русским все было прекрасно известно. По возвращении домой должен был отметиться в советской комендатуре. Офицер, беседовавший со мной, открыл толстую тетрадь и зачитал оттуда кое-что. Меня поразило, он знал о моем боевом пути больше, чем я сам.
Дома у меня хранилась карта, где я отмечал все свои перемещения во время войны, на обороте – комментарии. В 1953 году по всей ГДР шли аресты участников выступления 17 июня и просто подозрительных, к числу которых я, несомненно, относился. Тогда, от греха подальше, уничтожил ее вместе с некоторыми другими документами. Как я сегодня жалею об этом!!! Слабеющей памяти она послужила бы неоценимым подспорьем.
Какие же случаи врезались в память?
Один такой случай я уже упоминал. Зимой 1943-го, под Изюмом. Мы только что прибыли из Франции. Рождество встречали еще там. 2 января нас погрузили в вагоны, 17 дней находились в пути. Когда уезжали, стояла теплая, солнечная погода. Украина встретила пургой. Уже во время выгрузки на конечной станции попали под огонь русских танков. Лишь благодаря поддержке нашей артиллерии смогли выгрузиться. Это было очень тяжелое время. Холод, снег, непрерывные бои. Наша позиция располагалась в овраге длиной примерно 120 – 130 метров, неподалеку от деревни, где находился обоз. Впереди, в двух километрах, находилась небольшая возвышенность. Из-за пурги прозевали, что противник, под ее прикрытием, обошел нас с флангов. Когда заметили, было уже поздно. Наши французские пушки из-за мороза вышли из строя, пришлось обороняться стрелковым оружием. Как стали подходить к концу боеприпасы, послал солдата в деревню за патронами. Тот долго не возвращался. Вдвоем с одним фельдфебелем, уже не помню, как его звали, отправились на поиски. Солдата увидели в канаве перед самой деревней, он делал нам отчаянные знаки: «Назад!» Оказалось, наш обоз уже был захвачен противником. Мы не попались, так как русские увлеклись его грабежом. Убегали огородами – и здесь напоролись на группы красноармейцев, шедших к деревне. Несмотря на маскхалаты, нас заметили. Мы попали под огонь ППШ. Убили фельдфебеля, мы даже не смогли подобрать его медальон. В нескольких километрах наткнулись на своих. Здесь я и столкнулся с Конопкой, своим бывшим командиром, но мне в тот момент было не до старых знакомых. Кроме нас двоих никто уйти не смог.
Где покоится бедняга-фельдфебель, не знаю. Когда была возможность, мы своих солдат хоронили. Многие, однако, остались лежать там, где их убило. И, что особенно гнусно, их смертные медальоны превратились в товар, сам видел на барахолке.
Что знали об Украине до войны?
Ничего. Нуль.
Что поразило там?
Удивило, с каким воодушевлением встречало местное население: хлеб, соль, транспаранты, частью даже на немецком языке. Жители, когда мы проезжали, приветливо махали, выстроившись вдоль дороги. Для нас – после Польши – подобный прием явился неожиданностью. Похоже, здесь нас с нетерпением ждали.
Изредка – бывало и такое – какие-то люди, проводя рукой по горлу, кричали нам вслед: «Гитлер капут!» Мы на них внимания не обращали: наводить порядки в тылу не относилось к нашей задаче.
Не только, когда побеждали – и в самом конце войны сталкивался с преданными нам украинцами. Как-то раз, это случилось где-то под Киевом, где точно, уже не помню, во время отступления, мне поручили разведать, не успели ли русские войти в одну деревню. На дороге к ней видели пушку – требовалось выяснить, чья она. Отправились в разведку вчетвером, на легковом автомобиле. Пушку – неисправное трофейное орудие, явно брошенное еще при наступлении – нашли в кювете, никого поблизости не оказалось – уже хорошо. Остановившись, долго разглядывали дома в бинокль – ничего подозрительного заметить не удалось. Поехали дальше.
И вот мы уже на окраине деревни. Выгружаемся из машины – вдруг дверь хаты напротив отворяется, на крыльцо выходит приземистый старик-украинец: «Красные здесь!»
Где красные?
Указывает рукой в сторону церкви: «Там, на церква». (Так в оригинале)
Оказалось, русские, заняв деревню, обмывали в храме это событие.
Впоследствии я часто вспоминал того старика. Меня занимало, кем он был. Почему решил нас предупредить? Что стоило ему не выйти из дому или, выйдя, промолчать – и я бы, наверно, не сидел сегодня здесь.
Думаю, то, что мы не пошли на провозглашение украинского государства, являлось огромной ошибкой, стоившей нам верного союзника.
На какой технике воевали?
Не знаю, смогу ли удовлетворить Ваше любопытство вполне... Техническими деталями я не особенно интересовался. Для меня было важно знать основные характеристики орудия. А все остальное, какой оно там модификации и прочее, было не моим делом, этим занимались ремонтники.
Моим первым орудием являлась 37-мм пушка, на Восточном фронте с первых дней доказавшая свою почти полную бесполезность. Доходило до того, что вынуждены были переквалифицироваться в пехотинцев – стреляли из МГ, карабинов. Например, в мою бытность в 188м батальоне 88й пехотной армии, мы, правда, числились истребителями танков, но, поскольку оружие отсутствовало, нас придали пехоте. Командиром был, помню, один хауптман-пехотинец, родом из Дармштадта. Так вот, он говорил мне тогда: «Ты ничего не потерял, поиграв немножко в пехотинца. Узнаешь немало полезного.» Он был прав. В пехоте я очень многому научился, среди прочего, и в том, что касается стрельбы. У пехотинца обостренное ощущение передовой, в отличие от истребителя танков, как правило, находящегося несколько позади, им вернее оценивается опасность. Он должен ясно представлять себе, где враг.
После имел на вооружении 75-мм противотанковую пушку – это уже серьезное оружие. Пушки перевозились 10 – 12-тонными тягачами, обычно, фирмы «Майбах», но были и других заводов. Еще позднее перешли на самоходные шасси на основе устаревших танков. Во время переформирования во Франции нас довооружили трофейным французским оружием, для войны на Востоке абсолютно непригодным – по возвращении на Украину все пришлось побросать. К примеру, у французов был тягач на резиновом ходу. Передвигаться он мог только по очень хорошей дороге. Стоило пройти дождю – и он уже буксовал. Французская 47мм-пушка зимой сразу вышла из строя, не выдержав мороза. Мотоциклы французские в отличие от низких немецких были высоченными – мотоциклист представлял собой отличную мишень.
В конце войны, в Курляндии, воевал в составе 731-го дивизионного противотанкового батальона на «Егерях» (Hetzer – «Хетцер»), самоходках на шасси чешского танка – заводы «Шкода», вооруженных 75 мм пушкой и пулеметом МГ 34. Благодаря низкой посадке, «Егеря» были меньше уязвимы – снаряды, обычно, пролетали над нами, не задевая – и прекрасно маскировались на местности, используя небольшие возвышенности – ландшафт в Курляндии холмистый. Были и недостатки: слишком тесно внутри, слабая боковая броня, для перезарядки пулемета требовалось выбраться из танка.
В каждом взводе было по четыре машины, в бою они находились приблизительно в ста метрах друг от друга, иногда это расстояние было большим – зависело от конкретных условий местности.
Стоит упомянуть и мотоцикл БМВ, служивший мне незаменимым средством передвижения в течение всей войны. Приходилось много заниматься разведкой местности: зачастую дороги, указанные на картах, дорогами в нашем представлении вовсе не являлись.
Какое оружие противника являлось наиболее опасным?
О тяжелой артиллерии сказать ничего не могу. Когда слышали, летит т.наз. «хандкоффер» (Handkoffer – ручная кладь, чемоданчик) – снаряд большого калибра, от 150 до 200 мм, он издавал звук «бу-бу-бу» – не особо волновались: знали, он упадет далеко позади, с нами ничего случиться не может. Другое дело русские противотанковые пушки, в первую очередь, 76,2 мм пушка «ратшбум» и – особенно в пехоте – минометы. Мина взлетает почти вертикально и падает также отвесно, когда, наконец, слышишь шум – бежать, укрываться уже поздно. Из стрелкового оружия могу назвать ППШ. Что до русской авиации, то она получила возможность досаждать нам в конце войны, когда немецкие самолеты практически исчезли с неба. Наибольший страх вызывал штурмовик «Ил-2». Надо сказать, русские бомбили все подряд, их не останавливали знаки Красного креста: Россия, как известно, не присоединилась к Женевской конвенции. Из танков хорош был Т-34, один из лучших танков времен войны, замечательно приспособленный к местным условиям. Благодаря широким гусеницам он проходил там, где немецкие танки застревали. «Иосиф Сталин» – тот был слишком тяжел, неповоротлив. Еще в самом начале войны видел их много брошенных, иногда с перебитыми гусеницами. (Явно путает с КВ)
Каким трофейным оружием пользовались?
У меня была русская винтовка с оптическим прицелом, очень неплохая. А так, автоматы нам не требовались: мы же сидели в танке.
Сколько уничтожили танков?
Я не считал. В один день могли подбить три, потом долгое время ничего, затем один и т.д. – регулярности никакой не было. Подсчетами занимались штабные, те, что вели журнал боевых действий. Отчеты составлялись по данным командиров взводов.
Эти данные кто-то проверял?
Только в случае совершенно явных приписок. Скажем, горит на нейтралке единственный танк и всем известно, больше их не было, а зачисляет его на свой счет сразу несколько командиров. Вот тогда пытались разобраться. Обычно же никто себя проверками не утруждал. Принимали на веру.
Как относились к противнику?
К простым солдатам ненависти не чувствовали: они в нас стреляли, но и мы в них – на то и война. Против комиссаров, однако, были сильно озлоблены. Бывало, в плен не брали, сразу кончали. Но они же гнали собственных людей на верную смерть под дулом револьвера! – Самому, правда, видеть такое не довелось, но это всем известно.
Самое тяжелое воспоминание о войне?
Тягостные воспоминания связаны с гибелью товарищей. Разорванные на куски тела близких друзей. Конечно, на войне ко всему привыкаешь, чувства притупляются. И все же. Раз я отправил двух солдат занять пост на окраине деревни, зима, снег, на равнине подходы хорошо просматривались. Деревня, помню, называлась Елизаветовка. Всего пять – семь домов, их надо было удержать во что бы то ни стало по приказу фюрера – и за них шла упорная борьба, они постоянно переходили из рук в руки. Спустя какое-то время иду проверить постовых. Оба мертвы. Обоих снарядом разрезало пополам примерно на уровне пупка. Картина не для слабонервных. Хорошо еще, дело было зимой, в сильный мороз: летом пролилось бы больше крови, все выглядело бы еще ужасней.
Помнится наше вступление в Лемберг (Львов) в 1941 году. По обеим сторонам просторной аллеи, ведущей в город, стояли – куда ни посмотришь – гробы. Могу показать старую заметку о тогдашних событиях. Как очевидец, своими глазами видевший подвал лембергской тюрьмы – я его не только сам видел, но и фотографировал; фотографии были, к сожалению, в 1953 году уничтожены – подтверждаю, что все, до последнего слова, в этом рассказе правда. Это не очень приятное зрелище – помещение, размером приблизительно в эту комнату, заполненное сваленными в кучу полуобгоревшими трупами. Позднее красные пытались все приписать нам, как и Катынь, хотя в то время, когда совершались эти преступления, нас там еще не было.
(Цитата. Старая газетная вырезка, показанная мне, не имела указания источника – примечание переводчика
)
«В Лембергском подвале убийства
Жертвы кровожадности большевиков
Отчет «Немецкого информационного бюро» дополняет описание пыточного подвала лембергской тюрьмы рядом подробностей. Этот отчет служит убедительным свидетельством того, с какой жестокостью и террором большевистский режим, прячась за якобы социальным и прогрессивным фасадом, осуществлял политику угнетения, уничтожая все, что, казалось, стоит ему на пути:
«Уже в первую неделю войны произошли единичные случаи пыток и убийств украинцев, как мужчин, так и женщин, комиссарами ГПУ. В конце прошлой недели и в ночь на воскресенье из лембергских тюрем были выпущены уголовные преступники, в то время, как украинцев хватали на улицах или даже арестовывали в собственных домах и бросали в тюрьмы без предъявления каких-либо обвинений. Здесь и в других местах, к примеру, в управлении ГПУ, произошли избиения и пытки, чью жестокость нормальному европейцу невозможно и вообразить, поэтому мы опускаем подробности.
Счет погибших в тюрьмах украинцев идет на тысячи. Точное число назвать невозможно, поскольку трупы жертв были брошены в подвал, облиты бензином и подожжены.
Случившееся в Лемберге не является исключением. Из других городов, откуда большевики бежали от немецкого вермахта, также поступают сообщения о чудовищных эксцессах. Так, в Самборе жертвами бесчеловечной жестокости стали до пятисот представителей украинской национальности. Краковский корреспондент «Немецкого информационного бюро» имел возможность лично осмотреть места этого ужаса спустя 60 часов после освобождения города немецкими войсками. От здания тюрьмы, расположенной на дороге из Пшемысля, еще в среду и четверг распространялся густой, едкий дым. Здесь догорали несчастные украинские жертвы большевистского садизма. Из подвалов здания проступала наружу чудовищная вонь разлагавшихся тел, сваленных там в кучу. Из-за опасности эпидемий вход туда был воспрещен, в конце-концов пришлось перекрыть и ту часть улицы, что проходит вдоль тюремного здания. Тем не менее, украинцы и украинки, обеспокоенные судьбой пропавших родственников, все время пытаются проникнуть внутрь, чтобы по возможности убедиться в трагическом исходе.
Незабываемыми останутся сцены во дворе тюрьмы ГПУ, окруженной тысячами скорбящих украинцев и украинок. Здесь большевики уже в первую неделю войны без конца, после невероятных пыток, расстреливали украинцев или зарывали их перед приходом вермахта в братских могилах. Около сотни трупов были выкопаны, с тем, чтобы можно было их идентифицировать. Жертвы лежали рядами во дворе тюрьмы. Их окоченевшие, сведенные судорогами, руки, кисти, ноги и ступни позволяли догадаться о жестоких пытках, которым их подвергли перед смертью. ГПУ не останавливалось даже перед убийством беременных женщин, им вспарывали животы и разбивали эмбрионы об стены. В полном отчаянии бродили родственники жертв по тюремному двору пытаясь опознать в изувеченных трупах своих близких, меньше по лицу, больше по одежде и другим признакам. Неизвестно, кому следовало сострадать больше – тем, кто был умерщвлен жестоким образом, или их родным, со слабой надеждой переходившим от трупа к трупу, чтобы затем, найдя своего близкого и убедившись в трагическом исходе, лишиться чувств.
Прежде чем войти в пыточную камеру во дворе управления ГПУ, пришлось смыть толстый слой крови, покрывавший пол. До сих пор пятна крови на стенах, видные до самого потолка, свидетельствуют о жестоких пытках, осуществлявшихся здесь до прихода немецких войск.»
То, что наши солдаты увидели собственными глазами в Лемберге и других городах – в пятницу мы опубликовали аналогичное свидетельство из латвийского города Либау (Лиепая) – является не единичным случаем, а методом. Это практика жестокого истребления большевиками политических противников, опробованная сперва на гражданах и крестьянстве собственной страны и перенесенная впоследствии на другие национальности. Миллионы людей, чье единственное «преступление» состояло в том, что они не являлись большевиками, должны были распрощаться с жизнью. Они были принесены в жертву режимом, могущим – поскольку он не имеет никакой моральной основы – удержаться у власти лишь благодаря террору.»
Кстати, о фотографиях. Фотографировать не запрещалось?
В каждой части были свои порядки. У нас, если что и запрещалось фотографировать, так только образцы нового вооружения. Хотя ни для кого не было секретом – стоит оружию попасть на Восточный фронт, как, самое позднее, через три дня оно будет известно противнику. У меня было много фотографий – их отобрали в плену. Осталась лишь малая часть, дома, в Германии.
Расскажите, пожалуйста, о своих ранениях.
Да какие это были «ранения» – царапины! Кое-кто, узнав, что у меня серебряный нагрудный знак за ранения, может подумать: «Здорово досталось мужику!» На самом же деле мне несказанно повезло: прошел всю войну – и ни разу не задело по-настоящему. Мне и в лазарете не довелось побывать.
Советские военнопленные...
Как же, помню, особенно, в сорок первом-сорок втором, нескончаемые колонны, шедшие нам навстречу... Иногда и гражданские среди солдат. Что с ними дальше происходило, мы не знали, да меня это тогда и не интересовало. Мне было не до них: мое внимание неизменно поглощала очередная боевая задача. Все время на колесах. Одно время существовала даже т.наз. «боевая группа Кюна». Покоя не давали не то, что во время боев, но и на отдыхе, переформировании. То и дело тревога, партизаны там-то и там-то – на машины, вперед!
Расскажите, пожалуйста, о своем участии в борьбе с партизанами.
Рассказывать особенно нечего. Как правило, мы приезжали слишком поздно – партизан уже и след простыл. Партизан чужому обнаружить не так просто: это гражданские или солдаты, переодетые в гражданское – поди, отличи их от мирного обывателя! Бывало, конечно, хватали всех подряд, расстреливали для острастки. На войне всякое случалось. Сам я в таких экзекуциях не участвовал.
А случались все-таки бои с партизанами?
Да. Я ни разу не попадал, моим солдатам приходилось. Но чаще такие бои вела пехота.
Перебежчики с той и с другой стороны...
С русской не помню. С нашей... Под самый конец войны, в Курляндии, нас усиленно обрабатывали свои же офицеры, деятели Комитета Свободная Германия – он уже существовал тогда. Через репродукторы призывали нас сдаваться в плен, дезертирам обещались разные блага... Кое на кого такая пропаганда действовала, мораль в то время уже пошатнулась... Перебежчики с нашей стороны имелись. Слава богу, из моих солдат никто не сбежал.
Засыпали нас листовками. Рядовым, из-за напечатанного кириллицей пропуска в плен – содержался в каждой листовке, подбирать их запрещалось. Я, как офицер, занимался сбором, читал при этом, конечно. В качестве бывшего военнопленного могу засвидетельствовать, ни одно из раздававшихся обещаний впоследствии выполнено не было.
За что получили Немецкий крест в золоте?
Согласно статуту, я должен был восемь раз совершить нечто, достойное Железного креста первого класса. Только вот, что я там совершал, уже не помню. Воевал. Должно быть, неплохо, раз удостоился такой награды. У меня сохранилась заметка из фронтовой газеты, но в ней описывается бой, состоявшийся позже, я уже являлся кавалером Немецкого креста.
««Егеря» («Hetzer») и САУ Штурмгешютц
Для отражения прорыва противника на участке фронта рейнско-вестфальской пехотной дивизии были задействованы семь «Егерей» (истребителей танков) и три САУ Штурмгешютц под командованием 24летнего хауптмана Кюна из Дойцена под Борной. Их задача состояла в поддержке контратаки роты фузилеров. Фузилеры занимают исходную позицию. В обед на холмистую, изрытую снарядами главную линию обороны выходят «Егеря» и САУ Штурмгешютц. После короткого массированного удара нашей артиллерии истребители танков во главе с командиром внезапно возникают перед вражескими окопами – и уже падают первые снаряды пушек «Егерей» в рядах большевиков. Захваченные врасплох, парализованные красные (Sowjets) пялятся на наводящие страх «Егеря», не замечая как к ним подкрадываются и САУ Штурмгешютц. И вот они стоят на их правом фланге, стреляя из всех стволов. Одновременно с громким «Ура!» во фланг врагу ударяют фузилеры, их автоматы собирают богатый урожай среди бегущих большевиков. Сломя голову выскакивают из окопов и остальные красные (Sowjets), пытаясь по полю спастись бегством в лес. Но и здесь их настигают снаряды и пулеметные очереди «Егерей». Огонь продолжался не целых 30 минут, но немалое количество убитых и еще больше раненых большевиков свидетельствуют об ожесточении боя. Захвачены четверо пленных, шесть пулеметов и множество стрелкового оружия. Поле боя за нами, прорыв противника ликвидирован. – С удвоенной самоотверженностью солдаты выполнили свою задачу, с каждым выстрелом отомстив красным (Sowjets) за то, что они творят у нас на родине с нашими женщинами и детьми.»
Были ли Вы суеверны?
Нет, ни суеверным, ни верующим никогда не был. Я и с церковью, по примеру жены, порвал официально. (Чтобы не платить церковный налог, которым в Германии облагаются католики и протестанты – примечание переводчика.
) Всю войну был уверен, что выживу – и, в самом деле, не был обделен счастьем. Позднее у меня никогда, как у некоторых, не возникало и мысли, что не переживу плена. Маршируя в колонне пленных, думал: «Ну, вот, теперь идешь в плен. Прекрасным этот поворот в судьбе не назовешь. Но ты же не один в таком положении.»
Когда стало ясно, что война, скорее всего, будет проиграна?
Лично я утратил веру в победу со Сталинграда. Сомнения же возникли еще раньше. До начала войны я плохо представлял себе Россию, об Украине же вообще ничего не знал. У нас тогда о русских, украинцах не было и речи – войну вели против большевиков. Мы были отменно мотивированы, старания послужить на благо Отечества хоть отбавляй, трудностей, опасностей не боялись. И все же, стоило мне узнать немного страну, где пришлось воевать, сомнение – а хватит ли у нас сил выиграть эту войну? – появилось помимо воли. Здесь все давалось трудней, чем в Европе. Расстояния, погода, дороги, язык. Ремонтники, обоз безнадежно отставали – нам приходилось бросать пушки из-за мелких поломок. Не один я засомневался, были и такие, кто с самого начала не верил в успех – вслух такое, конечно, не говорилось, но можно было догадаться. Однако, сомнения сомнениями, но это не означает, что плохо воевали. Приказ есть приказ – всегда стараешься выполнить его, как можно лучше.
И так до последнего звонка. Несмотря ни на что, и в самом конце войны старались воевать по-прежнему. Удавалось не всегда. Если бой складывался для нас удачно – настроение поднималось, казалось, еще не все потеряно. Это, как в спорте: победы окрыляют. Однако, часто оно бывало подавленным. Стреляешь, стреляешь – и все без толку: врагов не убывает. Наоборот. Если в начале войны соотношение сил было один к одному – один к двум, то в конце ее – не меньше одного к восьми.
Повседневный приказ неизменно приводил в уныние: столько-то и столько-то танков, столько-то людей выбыли, потеряны, убиты. Заменить было, как правило, некем и нечем – как воевать? Случалось, командиры отказывались выполнить приказ, ссылаясь на отсутствие возможностей – с ними разбирались по законам военного времени.
Меня – я командовал ротой – сильно угнетало качество пополнения, поступавшего к нам в последние месяцы войны. Призывы хорошо подготовленной молодежи, прошедшей школу Гитлерюгенда, к тому времени были уже выбиты. Не осталось и фанатиков. Помню одного такого: «Для фюрера ничего не пожалею, жизнь отдам!» – От них, впрочем, было мало толку: они сами лезли под пули, а это на войне не суть. Наши новые товарищи... что это была за публика! Старики, еле волочившие ноги... Требовать с них того, что обычно ожидаешь от солдата, было бесполезно. И ничего не умели, подготовка – нулевая, их приходилось учить с азов. Отсюда несли большие потери.
Расскажу на одном случае, в чем разница между старым и неопытным солдатом. Всего в Курляндии произошло шесть крупных сражений. В промежутке между ними занимались зондированием местности. Однажды прочесываем лес. Впереди завал – несколько деревьев, как бы поваленных бурей. Один из моих командиров экипажей говорит: «Мне это сильно не нравится» и ускоряет ход. Выстрел. Чутье его не подвело: подъезжаем ближе – горит Т-34, прятавшийся за деревьями в засаде. Наш сумел выстрелить первым. Об этом и идет речь на войне: от воина требуется наблюдательность и быстрота реакции. От того, кто сделал первый выстрел, зависит жизнь и твоя и твоих товарищей. Ну, а как бы повел себя неопытный солдат? Скорее всего, он не придал бы никакого значения увиденному – подумаешь, пара деревьев валяется у дороги – и, в результате, не ушел бы живым.
Почему, думаете, проиграли войну?
Причин не одна, их несколько. Многого мы, солдаты, в то время еще не знали, к примеру, о предательстве генералитета. А оно имелось. Генералы, еще в самом начале кампании, частично извратили стратегические замыслы Гитлера. Наряду с предателями, немалый урон понесли от карьеристов, наломавших дров в погоне за чинами и наградами. У нас таких называли «больными горлом» (Рыцарский крест носился на шее на ленте) и болезнь эта, надо признать, была широко распространена среди офицерства. Ну и неравенство в силах. Если вас десятеро, что можно сделать против сотни? А, ведь, так было, особенно в конце войны.
Что писали домой?
Ничего особенного. О потерях не сообщал – зачем зря волновать родных. Конечно, когда убивали знакомых – со мной служили земляки, кое-кто из них был хорошо известен родителям, жене – упоминал. Как-то написал письмо одному товарищу. Много лет спустя, уже после войны, он, сохранив, подарил его мне. Текст самый обычный: «как поживаешь?» и т.д. Также и из дому получал письма, где, кроме семейных новостей, ничего примечательного не сообщалось.
Как строились отношения с населением во время оккупации?
На общение с населением у нас смотрели косо. Прямо оно не запрещалось – это было и невозможно, но, скажем так, слишком тесные контакты не поощрялись.
Размещались у жителей на постой. С отказом ни разу не сталкивался. Конечно, кое-кто, наверно, пускал нас не совсем по доброй воле, боялись... не знаю. Виду, во всяком случае, не показывали. Я же, размещая солдат, старался не слишком стеснить хозяев. На улицу никого не выгонял. Убедившись, что хата полна народу, искал своим людям другое пристанище.
Жалоб на солдат от местного населения мне лично ни разу не пришлось выслушать. Нам же особенно ничего нужно не было. Бывали, конечно, и перебои в снабжении, но это случалось на передовой. Так, что, если и брали у хозяев, то какую-нибудь мелочь, луковицу, например. Я всегда спрашивал разрешения. Реквизиций не устраивали.
Надо сказать, порядки у нас были строгие – никакой разболтанности. Дисциплина поддерживалась жесткими методами. Своими глазами видел на Украине служащего вермахта, повешенного своими же – на груди доска с указанием преступления. Что он такого совершил, уже не помню. Раз пришлось выступать свидетелем в военно-полевом суде по делу одного из моих солдат. К счастью, суд его оправдал.
Как развлекались, когда была возможность?
Местные женщины нас не привлекали, были неаппетитны. В их облике не имелось ничего женственного: замызганные телогрейки, платки – один нос торчал. Может, будь они по- другому одеты, было бы иначе. А так, за все время помню только два случая, когда меня кто-то заинтересовал. Однажды мы, четверо офицеров, квартировали у одной ученой дамы со степенью, кажется, по истории. Так вот, за хозяйкой мы ухаживали, флиртовали с ней. Вечерами устраивались танцы. И говорили обо всем на свете – она неплохо владела немецким. Но нас было четверо, да и дама отличалась строгими нравами. Вольности не допускались.
Походную кухню всегда окружали местные – повара отдавали им то, что оставалось от солдат. Иногда и консервы – у нас скапливалось, к примеру, много рыбных консервов, их не все любят. В Славянске зимой 43/44 года к кухне приходила попрошайничать хорошенькая девчонка, продвинутая – платка, во всяком случае, не носила. С ней я поприжимался немного, все было, однако, довольно невинно. Позже получил от нее письмо на ломаном немецком языке, что-то вроде «не забуду твоя крепкую поцелую». – Крепкий поцелуй! Больше-то ничего и не было.
Вот в Польше встречались красивые женщины. Но и там с этим было не так просто. Помню, идут как-то по улице две девушки, ну, просто, писаные красавицы, глаз не отведешь. Заметив, что я провожаю их восхищенным взглядом, мой «чистильщик» (Putzer) – так мы называли солдат, исполнявших обязанности денщиков; официально он являлся связным (Melder) – обращается ко мне: «Э, лейтенант, эти не для тебя».
Почему же не для меня?
Еврейки.
Вот так... мой солдат знал, а я и не догадывался!
Так, что на войне для меня обошлось без секса.
Ну, хорошо, секса не было, а что было?
На отдыхе, переформировании, когда стояла теплая погода, с великим удовольствием загорали. Сбросить с себя обмундирование; разлечься праздно, подставив тело солнечным лучам – колоссальное наслаждение! На передовой, ведь, не позагораешь...
Где встретили конец войны?
Под Фрауэнбургом (Салдус).
Как восприняли известие о капитуляции?
Были потрясены: в последние недели нам прожужжали все уши рассказами о новом оружии, вскоре ожидавшемся на фронте. В доказательство ссылались на бомбежку Лондона ракетами ФАУ-1. Мы, было, поверили, может быть, еще удастся добиться перелома. Не знаю, куда оно подевалось, это оружие, затерялось ли в служебной почте, как мой Немецкий крест?, но мы его так и не получили – и вот нас лишили надежды окончательно. Первые мысли были об оставшихся на родине женщинах и детях: что-то их теперь ждет?
Русского плена боялись?
Да, пропаганда была – верили.
О том, что восьмого будет капитуляция, мы узнали на день раньше. Весь день седьмого топили в болоте ценные вещи, в первую очередь, всю оптику, личное оружие: ничего не должно было достаться русским. Были сохранены лишь перочинные ножи, блокноты, карандаши, фотографии – их отобрали потом при первом же шмоне. Разграбили собственный обоз. Каждый переоделся в новенькую, с иголочки, форму, привели себя в порядок, побрились, почистились. Старые тряпки побросали. Подошедшие восьмого красноармейцы – здорово обтрепанные, им досталось не меньше нашего – все подобрали, набив ношеным барахлом свои вещмешки. В сравнении с ними, нашими конвоирами, мы выглядели просто шик. В плен шли, как наши отцы в восемнадцатом году: непобежденными, с гордо поднятой головой.
Боевое расположение духа продержалось, однако, недолго. 8 мая стояла сильная жара. Солнце пекло адским огнем, губы спекались от жажды. Наконец, конвой, как и мы истомленный зноем, позволил привал на каком-то латышском хуторе, где смогли напиться из колодца. Воду черпала местная крестьянка. И вдруг эта женщина, улучив момент, когда ее не слышали красноармейцы, обратилась к нам едва ли не с ненавистью в голосе: «Мы никогда не простим вам того, что проиграли войну!» – Настроение у всех тотчас испортилось, остаток пути шагали понуро.
Кто она была, немка?
Нет, хотя и говорила по-немецки.
В Фрауэнбурге нас погрузили в вагоны, поезд находился в пути несколько дней. Наконец, мы прибыли в 7270/1 лагерь в Боровичах, где мне предстояло пробыть до начала 1948 года. Это был барачный лагерь примерно на три тысячи человек с большой историей: еще в Первую мировую войну здесь содержались военнопленные. Солдаты и офицеры находились вместе. Работали на кирпичном заводе. Восстанавливали здание и оборудование, поврежденные при бомбежках немецкой авиацией.
Офицеры могли не работать?
Могли. Но администация лагеря придерживалась правила «кто не работает, тот не ест». На отказнике был заранее поставлен крест: пайка его была такова, что выжить не представлялось возможным. К голоду добавлялась монотонность лагерного распорядка. В результате, неработающие быстро теряли волю к жизни, опускались, умирали. Лишь немногим из них посчастливилось, как одному из моих товарищей-земляков, признанному дистрофиком, вернуться таким образом на родину – мне удалось через него известить родных, ничего не знавших о моей судьбе, что я жив и нахожусь в плену.
Для меня – работать или не работать – вопрос не стоял: работа вносила разнообразие в наше унылое существование, позволяла на время отвлечься от тяжелых мыслей. В особенности желанным было попадание в «команды», куда набирали «специалистов». Помимо того, что они охранялись слабей, здесь имелась надежда что-то «организовать» – слово, хорошо знакомое каждому военнопленному – т.е. обменять, выпросить, заработать, украсть и т.д. продукты питания. Мне «организовывать» помогало знание русского языка, приобретенное еще во время войны. Мой русский не был совершенным, но люди понимали меня и я их – это облегчало контакты.
Кормили нас так, что «организация» являлась жизненно необходимой: ежедневно тарелка жидкого супа, немножко каши и 400 грамм хлеба. Если в супе попадалась рыба – поедали ее вместе с костями, но чаще суп был одна вода. Каша тоже – что это за пища? – только желудок заполнить. За выполнение плана хлеба давали на двести грамм больше – т.наз. «хлеб рабочего» (Arbeiterbrot), выполнить план при завышенных нормах удавалось редко. Неудивительно, что мы – при таком питании нам приходилось заниматься тяжелым физическим трудом – были сильно истощены. Вот и мне довелось пару раз с дистрофией полежать в санчасти.
Что же, интересно, могли обменять военнопленные?
Да все, что угодно. Помню, в Боровичах послали нас побелить классы в одной местной школе. Дали мел. Кистей не было. Их мы должны были изготовить сами, материалом служила кора и ветви деревьев, росших во дворе. Когда там оказались, я сразу приметил за туалетом – дощатой будкой – лаз в заборе. И вот, пока товарищи импровизировали малярный инструмент, наломав сухих сучьев и веток и разделив их ломом – наше универсальное орудие в плену – на части примерно одинаковой длины, смастерил вязанку. Стою на улице, жду. Увидел прохожую: «Матка, иди сюда!» – выручил за дрова хлеб.
Как офицер, получал 40 грамм махорки. Всю ее выменивал на продукты. Вообще, надо сказать, заядлые курильщики были несчастнейшими из всех пленных. Бывало – правда, это единичные, не массовые случаи, что, отказывая себе во всем ради курева, доводили себя в прямом смысле до голодной смерти.
О чем говорили между собой на войне, в плену?
Когда служил новобранцем, в Борне, все разговоры были о девушках. Многие едва успели испробовать первые радости и огорчения любви, казалось, важнее предмета на свете нет. Позднее, на фронте, темой номер один была еда. Подслушав нас, посторонний решил бы, что попал на курсы кулинарной академии. Обменивались изощреннейшими рецептами – приготовить мы все равно ничего не могли: где?
И, наконец, в плену жратва превратилась в единственную тему, к ней были обращены все помыслы. Уже и речи не было об изысках, волновало чем – неважно чем – набить брюхо, не помереть с голоду. Ели, помнится, подсолнечный жмых – то, что идет на корм лошадям, сгодится и пленному: ему также требуются белки.
В лагере можно было встретить людей со всей Германии – саксонцев, баварцев, рейнцев, силезцев и т.д., много было крестьян. От них я узнал вещи, о которых прежде не имел ни малейшего представления. Мои познания в ботанике невероятно расширились, я научился распознавать десятки съедобных трав и растений. Рвали, к примеру, крапиву, варили – вкусно. Собирали мяту, сушили – из нее получался замечательный чай, к тому же, очень полезный при простудах.
Наш рацион был слишком скуден для тяжелой работы, но и его мы недополучали: в лагере воровали все, начиная с последней посудомойки. Поначалу нас это сильно изумляло, затем привыкли – слово «цап-царап» прочно вошло в обиход. Когда в суповой миске ложка вычерпывала одну воду, кто-нибудь неизменно отпускал комментарий: «Начальник... цап-царап». Мы и сами превратились в мастеров «цап-царап», случая не упускали. Когда ремонтировали дымоход печи на кирпичном заводе, пробили дыру в соседнее помещение. Там обнаружился склад картофеля. Тут же из палки с гвоздем умельцы изготовили орудие наподобие гарпуна, с его помощью воровали картошку. Все делалось с большими предосторожностями: попадись мы, нам грозило жестокое наказание за расхищение госсобственности. Но угрызений совести не испытывали, обрусев к тому времени – главное не попадаться!
Воспитывало нас свое же начальство. Помню, попал раз в блатную командировку. Нам троим выдали сухой паек на несколько дней, затем – на машине – мы были отвезены в поле, где нас ждал начальник лагеря собственной персоной. Там располагались участки, засаженные картофелем. Рядом паслись коровы. В нашу задачу входило следить за тем, чтобы скотина не заходила в посадки. Высокий начальник провел нас по полю, показав границы своего участка: «Здесь ничего не брать!» Затем, обратившись к соседским участкам: «Здесь можете... цап-царап. Но, смотрите, не попадаться!» Он не поленился даже показать нам, как выкопать картошку, чтоб не бросалось в глаза. Урок мы, конечно, усвоили.
Как относились к военнопленным?
С женщинами, а работать приходилось, в основном, рядом с местными женщинами, мы жили дружной семьей. Посторонние относились к пленным по-всякому: некоторые настороженно, с опаской, большинство же – вполне доброжелательно. Чего не замечали, так это явной враждебности. Никто нас не оскорблял и не унижал.
Иначе конвой. Конвоир, когда ему что-то не нравилось, мог заехать прикладом. У солдат психология другая, нежели у гражданских.
В начале 1948 года меня с несколькими другими пленными перевели в соседний лагерь 7270/3 в Пестово. По лесопилке, находившейся неподалеку, он назывался «Распиловка».
Приблизительно 400 заключенных лагеря занимались вылавливанием из воды и транспортировкой древесины, укладкой бревен и досок в штабеля. Каторжной была работа по загрузке железнодорожных вагонов: тяжеленные балки вручную, через голову, забрасывались в вагон. Именно она послужила поворотным пунктом в моей судьбе.
Ночью, с 4го на 5е мая 1948 года я внезапно почувствовал себя плохо, меня жутко вырвало. Освобождения от работы, тем не менее, не получил: порежь я палец, меня бы освободили, а так, якобы живот болит, температуры нет – симулянт. Немецкий военврач, работавший с нами на лесопилке, ничем не смог мне помочь: не имея инструментов, он затруднился поставить диагноз. Состояние, между тем, ухудшилось: на ногах стоять не мог – валялся на досках, мучаясь нестерпимыми болями. Наконец, и до конвоя дошло, что я не притворяюсь. Я был отправлен обратно в лагерь, где женщина-лагерный врач, после осмотра, перенаправила в местную лечебницу, туда меня свезли на телеге. Живот к тому времени сильно раздулся, я опьянел от боли. В больнице меня сразу прооперировали. Очнувшись от наркоза, узнал, наконец, что со мной: непроходимость кишечника как следствие разрыва сальника, короче, я надорвался.
Больничное питание было недостаточным. Выручала пайка, доставлявшаяся из лагеря. В нее входила махорка. Сам некурящий, менял ее у больных или посетителей на еду. Слух о том, что в больнице лежит пленный немец – в русских условиях маленькая сенсация – , быстро распространился. Когда начал вставать и ходить, то, куда бы ни направлялся, меня провожали любопытными взорами. Каждый встречный обращался ко мне с приветствием – кто сдержанно, кто по-дружески. Раз я оказался в палате, где лежал какой-то старик. Изможденный – кожа да кости – , с тусклым взглядом, выражавшим апатию, он выглядел живым мертвецом. Ухаживала за ним жена-настоящая русская «матка». Неожиданно, достав из сумки вареное яйцо и пирог, она протянула их мне: «Бери!» Я стал отказываться, ссылаясь на то, что ее муж сильно истощен; ему требуется больше есть, чтобы встать на ноги. – «Возьми, возьми! Он все равно скоро помрет, а ты молодой, вся жизнь впереди – тебе нужно поправиться после операции!» Меня этот случай глубоко растрогал: не думал я, идя в плен, что кто-то когда-то так отнесется ко мне – загадочная русская душа! (в оригинале – «русская ментальность»)
После выписки из больницы пролежал еще какое-то время в лагерной санчасти, позднее меня определили на легкие работы. В конце-концов эта операция стала моим «билетом на родину»: меня списали. На границе мы в последний раз прошли санобработку, затем нас тщательно обыскали. Через все шмоны в плену мне удалось сохранить маленький, размером в ладонь, альбом со свадебными фотографиями. К ним были подписи, сделанные от руки. Зная, что на русских любая строчка по-немецки действует, как красная тряпка на быка, предусмотрительно спрятал альбом в раздевалке – там лежали какие-то подушки, я засунул его в наволочку. Как выяснилось, не напрасно. При обыске у одного из товарищей были найдены несколько листков с дневниковыми записями, которые он вел в плену. Мы поехали дальше, а он остался.
18 декабря 1948 года, после долгой разлуки, я, наконец, смог обнять жену, родителей. Считаю, мне и здесь повезло. Неизвестно, смог ли бы я выжить, оставшись в Боровичах. В маленьком лагере в Пестово порядки были попроще, домашней и больница под боком. Счастье нужно иметь и оно, слава богу, не оставляло меня всю войну и в первые послевоенные годы.
По воспоминаниям немецких военнопленных, они рвались на Запад...
Для меня выбора не было: вся семья жила в восточной зоне.
Что до Вас доходило о жизни в Германии, когда были в плену?
Мало что, можно сказать, о ней мы не имели ни малейшего представления. Потребовалось время, чтобы акклиматизоваться на родине. В первую очередь из-за новых порядков. В материальном плане нашей семье, в сравнении с большинством, в послевоенные годы приходилось не так тяжело. Отец жены был мясником – у нас всегда на столе было мясо. Оставалось и на обмен: в то время процветала меновая торговля.
Как встречали бывших военнопленных?
Для новой власти мы были подозрительны. Как-то мой шеф – одногодок, тоже с 1920го, с ним у меня наладились отношения – рассказал о беседе, которую имел в окружном комитете партии. Его спросили, сколько мужчин, в первую очередь, воевавших занято в нашей сберкассе. Опасались заговоров, собственный народ вызывал у коммунистов страх. Имелось указание не допускать, чтобы в одном месте собиралось больше трех ветеранов. Шеф заверил, у нас женский коллектив.
Чтобы получить место по специальности, пришлось подать заявление о приеме в партию – таково было условие. В СЕПГ меня не взяли: всем было известно – мне и не приходило в голову это скрывать – , что я бывший офицер вермахта. Успев к тому времени оформиться на работу в сберкассу, нисколько не расстроился. Наоборот. Кто хорошо устраивался по возвращении из плена, так это деятели из Комитета Свободная Германия. Их ставили разными мелкими начальниками. Деревенскими бургомистрами и т.д.
Как к ним относились в плену?
Презирали. Чистейшей воды приспособленцы. В красном уголке у нас были выложены книги Маркса, Ленина, Сталина, Горького на немецком языке. Для перековки, так сказать. Несмотря на соблазн – иногда очень хотелось что-нибудь прочесть – мы их в руки не брали. Из принципа. Только эти изображали усердных читателей. В искренность их внезапного перерождения никто не верил: весь театр ради лишнего куска – им давали т.наз. «золотое ведро», т.е. консервы банками – и мелких привилегий.
Вообще, товарищество в лагере хотя и сохранялось, но стало хрупким. Дурной пример подали австрийцы. Вдруг обнаружилось, что национал-социализм был им навязан силой, они – вроде как невинные жертвы. С немцами знаться не хотели. Кучковались отдельно.
Как сложилась послевоенная жизнь?
Вернувшись, устроился в сберкассу в Борне, где и проработал до самой пенсии в 1985 году. Под конец руководил ревизионным отделом.
Самым тяжелым в ГДР была вечная боязнь доносчиков. Заимев в 1960-е годы дачу, приобрел некую отдушину. Соседям по даче доверял, как себе. Вечерами, за пивом, могли говорить откровенно, не стесняясь и по сторонам не оглядываясь. Я в то время сильно восхищался Западом. Когда вышел на пенсию, смог навестить, наконец, старого боевого товарища, бежавшего на Запад – он работал мастером на крупном предприятии (во времена ГДР свободно посещать Западную Германию могли лищь пенсионеры). Вернулся совершенно очарованный увиденным. Во время экскурсии по заводу, где работал мой друг, набрал с пола шурупов: у нас таких и не видели, а здесь они валялись! Сегодня от былого восторга не осталось и следа. Как я понял, это общество интересуется лишь двумя вещами: у кого сколько денег и кто, кому, как раздвинул ноги. Посмотрите, что сделали с нашим, некогда богатым, регионом! Скупили за бесценок все предприятия, положили в карман государственные средства на реконструкцию и позакрывали. Сегодня в Дойцене работают лишь пара ремесленников. Остальные пенсионеры, как я, или безработные. Народ отсюда бежит; города, деревни вымирают.
С женой в следующем году будем отмечать 70-летие нашей свадьбы. У нас прекрасные дети, внуки, правнуки. В последнее время здоровье супруги пошатнулось, из-за необходимости в постоянном медицинском уходе ей пришлось уйти в дом престарелых. Навещаю ежедневно, провожу у нее большую часть времени.
Что изменилось в ситуации ветеранов после Воссоединения?
Появились ветеранские объединения. Как-то случайно, в начале 1990х, узнал о такой организации – «Товарищество отставных лесничих Саксония» (Kameradschaft gedienter Forstleute Sachsen) – в наших местах. С тех пор езжу на встречи. На сегодняшний день в живых осталось девять человек – все из разных родов войск; нас объединяет лишь то, что прошли войну. Но если Вы подумаете, мы, встречаясь, вспоминаем о ней – ошибетесь. Говорим о здоровье, детях, внуках, правнуках, обыденных вещах.
Стал получать почту. Пишут коллекционеры – выпрашивают фотографии. Сначала никому не отказывал. Узнав, что на этом делается бизнес, теперь всем отвечаю: «Нет!» Приходят письма от родственников воевавших, люди интересуются судьбами предков. Недавно пришло письмо от одного молодого человека из Трира. Он спрашивал о дяде, тот воевал в 731м батальоне в звании лейтенанта. Мне фамилия ничего не говорила, я ему так и написал. В ответ получаю недоуменное послание: «Как же так! Этого не может быть!» Может. Не помню и все. В батальоне три роты, в каждой четыре взвода – даже в своей роте я всех офицеров не вспомню. А тут еще хаос последних дней войны. Люди появлялись и – также внезапно – исчезали.
В остальном, по большому счету, разницы не ощущается. Смотришь передачи Гвидо Кноппа (автор программ по истории на втором канале немецкого телевидения) – обязательно, если речь о том времени, то с негативным подтекстом. Конечно, массовое уничтожение людей в концлагерях нужно осудить – мы, кстати, об этом ничего не знали. А почему не зададутся следующим вопросом. Ведь это какой был фронт – от Норвегии до Северной Африки! Удерживать его только своими силами мы бы никак не смогли. На нашей стороне воевали сотни тысяч людей других национальностей, больше двадцати дивизий только из иностранцев. Что побуждало их разделить судьбу с нами даже тогда, когда исход войны определился? Такую массу не заставишь идти в бой из-под палки, они должны были верить в то, что сражаются за правое дело. СС совершенно смешали с грязью. А ведь это были обычные солдаты! В преступлениях виновна лишь малая часть, те, что охраняли концлагеря. Разве правильно валить всех в одну кучу? Я коллекционирую марки. Так вот, марки третьего рейха для себя иметь могу, но на обмен требуется специальное разрешение. Предположим, Вы также коллекционер, хотим поменяться... Я должен отправить марки в Берлин, в таможню, и ждать – позволят или нет. Что за чушь!
Получается, о целом периоде немецкой истории – с 1933го по 1945й годы – нельзя упомянуть ничего положительного. В ГДР он вообще был вычеркнут, тельманы да розы люксембург – вот, вам, и все прошлое. Нас, стариков, такое отношение ко времени нашей молодости сильно задевает.
Немецкий крест в металле я в свое время получить не успел, только нашивку. В хаосе последних месяцев войны он затерялся где-то в пути от штаб-квартиры генерал-лейтенанта Меллентина, подписавшего приказ о награждении. Также и манжетную ленту «Курляндия», которой был отмечен уже после капитуляции нашей части, мне, конечно, никто в плен не передавал. К моему девяностолетию товарищи приготовили мне особенный подарок: ими было организовано вручение обеих наград (в ФРГ можно заказать дубликаты орденов и знаков отличия, современные копии изготовливаются без запрещенной свастики). На церемонии с речами, опубликоваными позднее газетой «Камераден», выступили майор в отставке Ример и ветеран танковой дивизии СС «Викинг» Г. Пениц.
«Также и моя честь заключалась в верности отчизне. «Благодарность» Фатерланда мы получаем сегодня в виде клеветы, травли и личных нападок. Если бы не поддержка нашего ветеранского товарищества, можно было бы придти в отчаяние от глупости и безразличия большинства сограждан!»
В Советском Союзе были после возвращения из плена?
Нет, ни разу.
Хотелось бы еще раз посетить те места?
На Украину особенно не тянет, я там нигде подолгу не задерживался. А, вот, туда, где я провел несколько лет в плену – Боровичи, Пестово – съездил бы охотно.
Снится война?
Первые годы снилась, теперь уже нет. Но сон ведь это что … просыпаешься – он упорхнул, не ухватишь.
Чем она стала для Вас?
Потерянной молодостью. Ну что у меня были за «лучшие годы жизни»?... Восемнадцатилетним меня призвали, мне было 28 лет, когда вернулся из плена. Полученный опыт отпечатался навсегда. Родительский дом, школа, армия дали мне то, что имею по сей час.
Хотя, надо сказать, каждый из нас видел его по-своему. И о войне у всякого своя правда. Спросите двух солдат, сидевших в одном окопе, в метре друг от друга, и их рассказы не совпадут. У меня правда такая.
 Вольфганг Морель спел на берегу Волги Фото: скриншот
Вольфганг Морель спел на берегу Волги Фото: скриншот
 На прощание договорились о встрече Фото: скриншот
На прощание договорились о встрече Фото: скриншот