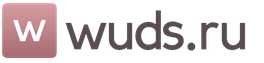*** У многих его имя на слуху *** Немецкий мыслитель, классический филолог, композитор, создатель самобытного философского учения. Будучи изложенными в афористической манере, большинство сочинений Ницше не поддаются однозначной интерпретации и вызывают много споров *** На Ницше оказали сильное влияние Сократ, Платон, Аристотель, Эпикур,
Парменид, Древнегреческая философия, Паскаль, Вольтер, Кант, Гегель, Гёте, Шопенгауэр, Вагнер, Соломе, Гёльдерлин, Достоевский, Монтень, Ларошфуко
******* Меня поражает, как Ницше мог создавать свои оригинальные произведения, постоянно мучаясь головными болями и почти ослепнув. В трех шагах он ничего не видел. Плохая наследственность создавала ему одни проблемы. И все-таки, вопреки своим страшным болезням, он творил и прославился на весь мир.
Осколки мыслей Фридриха Ницше
*** Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя
*** Много говорить о себе - тоже способ себя скрывать
*** Там, где нельзя больше любить, там нужно пройти мимо
*** Мужчина - это опасность и игра. Поэтому ему нужна женщина - опасная игрушка
*** Железо так говорило магниту:" Больше всего я тебя ненавижу за то, что ты притягиваешь, не имея достаточных сил,чтобы тащить за собой".
*** А больше всего ненавидят тех, кто способен летать
*** Человек - это канат, протянутый между животным и сверхчеловеком, канат над пропастью
*** Ни один победитель не верит в случайность
*** Умирает надежда, рождается цель
*** Наиболее приятным в языке бывает не само слово, а тон, ударение, модуляция, темп, с которыми произносится ряд слов - короче сказать,
музыка, скрывающаяся за словами, страстность, скрывающаяся за музыкой, личность, скрывающаяся за страстностью
*** Человеку дана надежда, чтобы он, несмотря на все мучения, продолжал жить
*** Если вы решили действовать, закройте двери для сомнений.
*** Тот, кто не может располагать двумя третями дня лично для себя, должен быть назван рабом
*** Если хочешь оказать благодеяние человеку, оставь его в покое.
*** Есть два пути избавления от страданий: быстрая смерть или продолжительная любовь
*** Будь тем, кто ты есть
*** Обычный человек озабочен тем, как ему убить время, а талантливый стремится его использовать
*** Самые тихие слова именно те, которые приносят бурю. Мысли, приходящие как голубь, управляют миром
*** Факты не существуют, есть только интерпретация
*** Многие умирают слишком поздно, а иные слишком рано. Пока еще странным кажется учение:"Умри вовремя"
*** Все препятствия и трудности - это ступени, по которым мы растем ввысь.
*** Каждый гений носит маску
*** Все имеет два лица: одно увядает, другое расцветает
*** Нужно носить в себе еще и хаос, чтобы быть в состояни родить еще танцующую звезду
*** Наши недостатки - наши лучшие учителя. Исправляя их, мы растем
*** Спокойна глубина моего моря; никто и не догадывается о том, какие забавные чудовища скрывает оно.
*** Мышление - это страдание и несчастье. Удобнее повиноваться, чем исследовать, гораздо приятнее думать:"Я обладаю истиной", чем видеть вокруг себя один мрак.
*** Познание - это одна из форм аскетизма
*** Несбывшееся бывает куда важнее случившегося
Ежедневная аудитория портала Стихи.ру - порядка 200 тысяч посетителей, которые в общей сумме просматривают более двух миллионов страниц по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество посетителей.
И. И. Евлампиев
Концепция личности в философии Ф. Ницше
(на материале ранних работ)
Значение Ницше в истории европейской философии обычно связывают с тем, что он подверг резкой критике традицию классического рационализма, показав одновременно ее тесную взаимосвязь с христианским платонизмом, восходящим к Августину. Однако помимо этой чисто критической задачи Ницше в своих трудах решает (хотя и не столь явно) также и позитивную задачу - выстраивает новое мировоззрение, порывающее с указанной традицией. Если первая составляющая его воззрений общеизвестна, то вторая все еще остается скрытой. Однако, по нашему мнению, дистанция исторического времени заставляет в конце ХХ века признать вторую составляющую философии Ницше более значимой и важной, чем первая; в трудах Ницше, несмотря на весь его пафос ниспровержения всех традиционных ценностей, мы находим весьма последовательную и связную метафизическую концепцию личности , которая, порывая с классической традицией, тем не менее не является абсолютно «беспредпосылочной », а представляет собой гениальное развитие давней мировоззренческой парадигмы, восходящей к восточному дуализму (зороастризму), античному гностицизму и немецкой мистике позднего средневековья и эпохи Возрождения. Эту парадигму можно условно назвать гностико-мистической. Главным принципом христианского платонизма является предположение о существовании некоего обособленного «метафизического мира», заключающего в себе в вечности и неизменности все, что было, есть и будет; наш эмпирический мир предстает при этом как несовершенная и вторичная («испорченная» грехом) копия «высшей» реальности. Эта концепция вносит в жизнь человека явные фаталистические мотивы: его свобода и творчество оказываются иллюзорными, чисто эмпирическими феноменами, поскольку в метафизическом, «истинном» смысле все реальное, благое и прекрасное уже существует и не может быть чем-то «дополнено», как-то «улучшено». Наоборот, в гностико-мистической парадигме «метафизический мир» теряет свое превосходство над эмпирическим миром, именно последний становится центром бытия, в нем совершается самое главное - то, что определяет судьбу всей реальности. При этом наиболее характерным признаком всех версий гностико-мистического мировоззрения (от античных гностиков до философских систем Шеллинга и Вл. Соловьева) является представление об особой (центральной!) роли человека в бытии - своеобразный антропоцентризм , полагающий глубокое и неразрывное единство Бога и человека и предельную значимость деятельности человека - его творческой свободы - для судеб мироздания .
Для понимания истоков философии Ницше важное значение имеет его ранняя, неоконченная и неопубликованная при его жизни, работа « Философия в трагическую эпоху Греции» . Здесь Ницше резко противопоставляет две эпохи в развитии древнегреческой философии: эпоху ранних греческих философов, досократиков , и эпоху, начавшуюся с деятельности Сократа. В противоположность традиционной точке зрения о « наивности» досократиков по сравнению с главными представителями древнегреческой философии - Сократом, Платоном, Аристотелем и их эллинистическими последователями, Ницше доказывает, что они обладают явными преимуществами перед последними. Он отвергает представление о том, что философские идеи имеют непреходящее значение только в том случае, если они изложены в форме логически выстроенной, рациональной системы. Не системность, не рациональная строгость и проработанность философских идей, а соответствие основным интенциям развития человека и культуры - вот в чем Ницше видит значение философии. Этот критерий заставляет его отдать предпочтение философам-досократикам перед более поздними греческими философами. Первые были в согласии со своей эпохой, с ее естественным и цельным развитием, в то время как последние думают уже только о своем собственном будущем, а не о будущем человека и культуры .
Таким образом, в самых ранних работах Ницше со всей очевидностью проступают два важнейших принципа, на которых будет строиться все его « зрелое» мировоззрение. Во-первых, это представление о « пластичности» , непредсказуемой изменчивости культуры и самого человека, представление, заставляющее Ницше считать важнейшим философским понятием понятие становления. И, во-вторых, это убеждение в первостепенном значении философии как реального фактора, способного как помочь развитию человека и культуры, так и воспрепятствовать этому развитию, привести культуру к застою и даже деградации (позже эта тема особенно ярко зазвучит в применении к « негативной» роли христианства). Философия, по Ницше, это особый образ жизни, связанный с пониманием самой сущности жизни и, значит, со способностью руководить ходом истории и развитием культуры. « Для меня, - пишет Ницше, - философ имеет значение ровно настолько, насколько он может давать пример. Что своим примером он может увлечь за собою целые народы, - в этом нет сомнения; это показывает история Индии, которая почти тождественна с историей индийской философии» .
Не удивительно, что среди всех ранних греческих философов в качестве самого значительного и наиболее близкого себе Ницше выделяет Гераклита, ведь именно Гераклит впервые в предельно радикальной форме выразил идею становления, развития всего сущего. При этом Ницше особенно подчеркивает, что Гераклит в отличие от более поздних философов, также признававших универсальность становления, отрицает наличие некоего « второго» , сверхэмпирического мира, в котором господствует неизменность. Он не боится признать становление абсолютным качеством бытия и не ищет для мысли опоры в некотором « вечном» и « неизменном» мире. Ницше также высоко оценивает стремление Гераклита к конкретному , интуитивному мышлению, избегающему абстракций, « иссушающих» все живое и становящееся.
Естественно, что Парменида Ницше называет первым философом, вставшим на ошибочный путь признания абстракций и стоящих за ними « вечных» сущностей за орудия истины. « Отныне истина должна обитать лишь в самых отцветших и отдаленных общих положениях, в пустой шелухе неопределенных слов, как в паутине, - и возле такой “ истины” сидит философ, тоже бескровный, как абстракция, и весь затканный формулами» . В конечном счете, этот путь привел Платона к тому, чтобы заменить живую, конкретную и становящуюся действительность « страной» вечных, безжизненных идей, признанной им за высшую и подлинную реальность.
Для понимания подлинного в Ницше очень много дает и его первая известная книга «Рождение трагедии». Ее основная метафизическая конструкция лаконично выражена Ницше в предисловии, написанном через много лет после первой публикации этой работы, фактически в конце его сознательной творческой жизни. Как пишет Ницше, « вся книга признает только художественный смысл, явный или скрытый, за всеми процессами бытия - “ Бога” , если вам угодно, но, конечно, только совершенно беззаботного и неморального Бога-художника, который как в созидании, так и в разрушении, в добром, как и в злом, одинаково стремится ощутить свою радость и свое самовластие, который, создавая миры, освобождается от гнета полноты и переполненности, от муки сдавленных в нем противоречий. Мир, в каждый миг своего существования достигнутое спасение Бога, как вечно сменяющееся, вечно новое видение, предносящееся преисполненному страданий, противоположностей, противоречий, который способен найти свое спасение лишь в иллюзии ...» Типично гностическая мифологема « страдающего Бога» , несущего в себе неразрешимые противоречия, совмещается здесь с кантовско-шопенгауэровским пониманием мира как « представления» . Однако Ницше ясно подчеркивает смысл своего принципиального расхождения с Шопенгауэром и Кантом. Для последних признание мира только « представлением» означает приговор миру, отказ от « доверия» миру, это ведет к тому, что « за» миром постулируется некая « подлинная» реальность; для Ницше же цель, как он это сам формулирует, - научиться « искусству посюстороннего утешения» , позволяющему принять наш мир и нашу жизнь в качестве главной (если не единственной) сферы бытия.
Кажется, что последнее суждение вступает в противоречие с многочисленными утверждениями, разбросанными по всему тексту работы, о том, что феномен дионисийства непосредственно отражает единство человека с Первоединым . Первоединое в этом контексте выступает как та « потусторонняя» метафизическая сущность, за полагание которой Ницше критикует всю классическую философию и Шопенгауэра. Однако как раз в этом пункте Ницше решительно отходит от буквального следования Шопенгауэру и начинает движение к новой метафизической конструкции, устраняющей разделенность двух миров - земного (пространственно-временного, эмпирического) и божественного (вечного, сверхэмпирического). Помогает ему в этом все тот же Гераклит. Его идея посюстороннего первоединого (мирового огня) позволяет преодолеть наваждение платоновского дуализма и наметить контуры новой метафизики, в которой трансцендентный Абсолют оказывается одновременно имманентным нашей земной реальности. Переходной характер « Рождения трагедии» , причудливое соединение в этой работе еще непреодоленных чужих влияний и уже вызревающих новаторских идей наглядно отражается в том, что этот трансцендентно-имманентный Абсолют Ницше называет и Первоединым , и жизнью . Очевидно, что первое обозначение явно намекает на Шопенгауэра, в то время как второе предвосхищает главную составляющую будущей философии Ницше - метафизическую интерпретацию « жизни» как иррациональной основы всего сущего. При этом в « Рождении трагедии» более ясно и прямо, чем в последующих работах, выступает непосредственная связь утверждения об универсальности жизни с признанием центрального положения человеческой личности в бытии, благодаря чему жизнь как абсолютное начало всего сущего почти отождествляется с « жизненной силой» (позже она получит название воли к власти ), прорывающейся в каждой личности . Ведь отдельный человек находится в нерасторжимой связи с Первоединым (жизнью), и эта связь постоянно « подтверждается» дионисийскими состояниями личности, в то же время весь остальной (« неживой» ) мир есть только представление Первоединого и, значит, представление личности.
То, что именно человеческую личность Ницше понимает в качестве единственной адекватной формы « явления» Первоединого , или жизни, в « Рождении трагедии» становится ясным из анализа образа эсхиловского Прометея. Мифу о Прометее и соответствующему образу трагедии Эсхила Ницше придает универсальное значение, считая этот миф выражением « сущности всего арийского мира» (т. е. выражением главной интенции той культуры, которая присуща всей семье арийских народов). Если учесть, что через противопоставление арийского и семитского мира Ницше описывает различие « истинного» и « ложного» пути культуры и человека - движения к своему творческому будущему, с одной стороны, и воспрепятствование такому движению (через внедрение в сознание людей и в культуру понятий вины, греха и долга), с другой, станет ясно, что интерпретация мифа о Прометее в его работе выступает как символическое отражение единственно верного отношения человека к своей жизни и к своей судьбе.
« Несчастье, коренящееся в сущности вещей, которого сознательный ариец не склонен отрицать путем кривотолков, противоречие, лежащее в самом сердце мира, открывается ему как взаимное проникновение двух различных миров, например божественного и человеческого, из коих каждый как индивид прав, но, будучи отдельным и рядом с каким-либо другим, неизбежно должен нести страдание за свою индивидуацию . При героическом порыве отдельного ко всеобщности, при попытке шагнуть за грани индивидуации и самому стать единым существом мира - этот отдельный на себе испытывает скрытое в вещах изначальное противоречие, т. е. он вступает на путь преступлений и страданий» . Очевидно, что в данном контексте противоположность божественного и человеческого Ницше понимает не в духе платоновского дуализма истинного и иллюзорного бытия, а в смысле гностических ересей христианства (манихейство) и древневосточных религиозно-философских систем (зороастризм) - как внутреннюю диалектическую противоречивость единственного, « посюстороннего» мира. Подобно тому как в гностических ересях признание этого « внутримирового » дуализма вело к резкому усилению значения личной позиции человека в борьбе двух сил мироздания, с помощью своей интерпретации мифа о Прометее Ницше обосновывает своеобразный титанизм , предельно возвышающий человека. Поскольку его основой является принцип единства-тождества человека с Первоединым , оказывается, что прометеевское , титаническое начало является непосредственным отражением и реализацией в каждый момент жизни человека дионисийского начала в нем. « Титаническое стремление стать как бы Атлантом всех отдельных существ и на сильных плечах нести их все выше и выше, все дальше и дальше и есть то, что объединяет прометеевское начало с дионисическим » .
Впрочем, необходимо отметить, что эта тема - тема прометеевского , титанического начала в человеке, ответственности человека за свою позицию в борьбе полярных начал мироздания - в « Рождении трагедии» появляется лишь в одном эпизоде (при анализе эсхиловской трагедии о Прометее) и слабо связана с главной линией рассуждений Ницше. Более ярко и прямо эта тема прозвучала в статьях из цикла « Несвоевременные размышления» , созданных вслед за первой книгой Ницше. Именно в этом аспекте указанные статьи представляют особый интерес для понимания исходных принципов философской антропологии Ницше.
Прежде всего необходимо заметить, что нигде в других сочинениях философа мы не находим столь решительного утверждения идеи абсолютной уникальности каждой личности. Ницше настаивает на том, что эта уникальность является по существу только заданной, а не данной, личность призвана к тому, чтобы всю свою жизнь посвятить раскрытию своего внутреннего неповторимого содержания, своей уникальности. « В сущности, - пишет Ницше, - каждый человек хорошо знает, что он живет на свете только один раз, что он есть нечто единственное, и что даже редчайший случай не сольет уже вторично столь дивно-пестрое многообразие в то единство, которое составляет его личность; он это знает, но скрывает, как нечистую совесть, - почему? Из страха перед соседом, который требует условности и сам прячется за нее... Одни лишь художники ненавидят это небрежное щеголяние в чужих манерах и надетых на себя мнениях и обнажают тайну, злую совесть каждого, - положение, что каждый человек есть однажды случающееся чудо...» Главная проблема нашего существования в том, что мы подчиняемся общепринятому, живем в соответствии с всеобщими нормами и требованиями среды и тем самым теряем свою уникальность, т. е. теряем себя ; « никто не осмеливается проявить свою личность, но каждый носит маску или образованного человека, или ученого, или поэта, или политика» .
Понимая невозможность реализации идеала уникальности и неповторимости в жизни каждого человека, Ницше уточняет этот тезис в том смысле, что каждый человек должен отдать свою жизнь служению делу создания грядущих совершенных личностей. « Ибо вопрос гласит ведь так: каким образом твоя жизнь - жизнь отдельного человека - может приобрести высшую ценность и глубочайшее значение? При каких условиях она менее всего растрачивается даром? Разумеется лишь в том случае, если ты живешь для пользы редчайших и ценнейших экземпляров, а не для пользы большинства, т. е. экземпляров наименее ценных, если брать их поодиночке. И именно этот образ мыслей нужно внедрять и укреплять в каждом молодом человеке, чтобы он смотрел на себя как на неудавшееся произведение природы, но вместе с тем как на свидетельство величайших и чудеснейших намерений этой художницы; ей не удалось это - должен он сказать себе - но я хочу почтить ее великое намерение тем, что буду стараться, чтобы когда-либо ей это лучше удалось» .
Здесь мы сталкиваемся с характерным противоречием во взглядах Ницше, которое и в дальнейшем, хотя и не в столь явной форме, останется главным противоречием его философии. Та метафизическая модель человека, которая лежит в основе всех его размышлений, безусловно, предполагает, что именно отдельная личность, во всей ее конкретности и полноте, является центром бытия, - только в этом случае приобретает глубокое оправдание борьба Ницше с традиционным пониманием человека, предполагающим приоритет всеобщей духовной субстанции над отдельными эмпирическими индивидами. Как мы только что видели, в одной из своих ранних работ Ницше прямо провозглашает первичность отдельной личности, абсолютное значение ее неповторимой уникальности. Тем не менее, при конкретной разработке своего учения о человеке и его (метафизическом) становлении, он приходит к тезису, вступающему в непримиримое противоречие с этой идеей: он утверждает, что абсолютность личностного бытия не может быть реализована в каждой личности, и, значит, огромное количество « низших» личностей в своем существовании не могут быть признаны самодостаточными, значимыми сами по себе, а должны рассматриваться только как « материал» , как промежуточные « пробы» для появления « высших» личностей. Именно эта тенденция при ее прямолинейном проведении и при полном забвении первой, противоречащей ей тенденции ведет к тому упрощенному варианту « ницшеанства» , который создал миф о Ницше как антигуманисте и проповеднике войны и насилия.
Для правильной оценки мировоззрения немецкого философа необходимо постоянно помнить о присутствии в его философии обоих тенденций и, кроме того, учитывать, что вторая тенденция не должна пониматься в вульгарно-биологическом смысле, в том смысле, что миллионы жизней нужны только для « унавоживания » почвы для появления отдельных « высших» индивидов. Даже приведенная выше цитата позволяет утверждать, что для Ницше значение неудачных экземпляров человеческого рода состоит не в том, что они служат грубым « материалом» для появления « высших» , а в том, что они своим пониманием идеала человеческого развития и своей неудовлетворенностью собственной жизнью вносит в культуру мощный заряд устремления к этому идеалу. Каждая новая личность, входящая в жизнь и в культуру, под воздействием этого заряда с большей энергией и настойчивостью ищет истинной жизни и борется за полноту своей уникальности, за полноту воплощения идеала в своем бытии. В конечном счете, именно эта непрекращающаяся борьба индивидов за свое совершенство, передающаяся « по наследству» через культуру, и должна привести к появлению « высших» представителей человечества. Такая интерпретация идей Ницше подразумевает, что жизнь (и воля к власти как ее сущность) реализуется в человеке не через его биологическую деятельность, а через его творческие усилия по созиданию культуры . Не вызывает никаких сомнений, что в своих ранних работах Ницше именно так использует понятие жизни, а биологические аналогия являются только аналогиями. Лишь в поздних работах (особенно в книге « По ту сторону добра и зла» ) эти аналогии приобретают самодовлеющий характер, и возникает тенденция к чисто биологической интерпретации понятий жизни и воли к власти. Однако целостное восприятие всего комплекса идей Ницше заставляет признать этот сдвиг в сторону биологизма, скорее, следствием нарочитого радикализма Ницше, его постоянного желания эпатировать благонамеренного обывателя. Отметим, что очень точную интерпретацию философии Ницше именно как идеологии бесконечного культурного творчества, дал С. Франк в своей работе « Фр. Ницше и этика “ любви к дальнему”» .
В поздних работах Ницше его постоянное обращение к « высшим» личностям, к « героям» , противостоящим « серой массе» , « чандале » , затемняет идею абсолютного значения каждой личности. Однако по существу эта идея не исчезает из его философии , она просто отодвигается на второй план в связи с тем, что теперь речь идет не о метафизике человека, а о его наличном существовании в системе норм и правил культуры и общества. Постулат метафизической абсолютности каждого при этом совмещается с признанием различной степени реализации этой абсолютности в наличных условиях. Не веря в возможности людей осознать и выразить свою потенциальную абсолютность, Ницше обращается только к тем, кто достиг в своей жизни достаточной полноты ответственности за себя, за будущее человека, культуры и общества - ответственности, обусловленной как раз этой абсолютностью. Здесь можно видеть своеобразное разочарование в человеке, утрату веры в то, что каждый из нас способен в своей жизни превзойти себя и стать неповторимой и творчески плодотворной личностью, творящей культуру и оказывающей мощное воздействие на окружающий мир и людей вокруг. Тем не менее нужно подчеркнуть, что такая вера безусловно присутствовала в душе молодого Ницше и отразилась в его сочинениях, в связи с чем по отношению к его более поздним работам нужно говорить именно о разочаровании , об утрате веры. Об этой вере свидетельствует не только статья « Шопенгауэр как воспитатель» , но и написанная вслед за ней статья « О пользе и вреде истории для жизни» из того же цикла « Несвоевременные размышления» .
Рассматривая в этой работе отношение личности к истории, Ницше по существу говорит о той же проблеме, которая была главной в предыдущей статье, - о различии « истинной» и « неистинной» жизни, о правильном пути человека в жизни, позволяющем ему стать творцом истории. « Неистинный» путь, препятствующий раскрытию уникальности личности и подавляющий ее творческий потенциал, Ницше связывает здесь с « историческим образованием» , навязываемым каждому из нас современным обществом. Человека приучают принимать все события его бытия не в их собственном уникальном смысле, не в их значении для него самого, а в том смысле, который определен их положением в историческом процессе, их ролью в истории (крайним случаем такого понимания отношения истории и жизни Ницше считает философию Гегеля). Но, как считает Ницше, чисто « историческое» отношение к жизни просто невозможно, то, что мы называем историей и нашим представлением о ней, есть соединение исторического и неисторического; нет никакой « объективной» истории, есть форма отношения жизни, реализующей себя в личности, с цепью событий, протекающих в мире и затрагивающих личность. На основании этого Ницше выделяет три вида истории - монументальную, антикварную и критическую, каждая из которых есть форма « организации» личностью потока событий ради реализации своих жизненных целей (монументальная - ради деятельности в мире, антикварная - ради сохранения существующего состояния, критическая - ради оправдания и искупления своих страданий).
Смысл « неисторического» чувства остается у Ницше не до конца проясненным; в то же время правильная его интерпретация имеет большое значение для понимания взглядов философа. Ницше выделяет здесь два момента. Первый - это собственно неисторическое восприятие мира, заключающееся в том, что человек замыкается в данном событии и не желает оценивать его исходя из исторической перспективы. Второй аспект, над-историческая точка зрения, как ее называет Ницше, - это способность встать над историей, в результате чего « мир в каждое отдельное мгновение представляется как бы остановившимся и законченным» . Ницше не связывает эту над-историческую позицию с причастностью личности к некоторой вечной, сверхисторической реальности, тем не менее невозможно понять, как можно говорить об этой позиции, если не предполагать наличие вечных элементов в структуре реальности. В результате, в философии Ницше все-таки сохраняется место для Абсолюта, хотя и очень непохожего на тот, который характерен для платоновской традиции (Абсолют как обособленный трансцендентный мир). В более поздних работах Ницше радикально отвергает наличие в мире Абсолюта в любом возможном смысле, но именно поэтому его взгляды в метафизическом смысле становятся гораздо менее последовательными, - ведь способность человека занять над-историческую позицию по-прежнему признается им (хотя и не столь явно); на такой позиции стоит, например, его Заратустра.
Интерпретация « над-исторического чувства» как выражения причастности личности некоторой сверхисторической реальности, трансцендентно-имманентному Абсолюту, получает очевидное подтверждение и в связи с рассуждениями Ницше о тех целях, которые человек должен полагать себе в истории. Собственно говоря, в наиболее общей постановке эта цель не изменяется по сравнению с тем, как Ницше понимал ее в предыдущей статье из « Несвоевременных рассуждений» ; это - раскрытие уникальной полноты бытия, заложенной в каждой личности. Дополненный убеждением в невозможности реализации этой цели в каждой личности, этот принцип приводит к следующей формулировке: « ...цель человечества не может лежать в конце его, а только в его совершеннейших экземплярах » . Этим « совершеннейшим экземплярам» может стать каждый, но далеко не каждый реализует эту потенциальную возможность; констатация этого печального факта и заставляет Ницше обращаться не к каждому , а к избранным .
Самое интересное в данном случае заключается в том, как Ницше описывает те необходимые условия, при которых только и возможна реализация творческого начала в человеке, возможно «сотворение» им себя самого, раскрытие его потенциальной бесконечности. Главным из этих условий Ницше называет атмосферу иллюзии ; « только в любви, только осененный иллюзией любви может творить человек, т. е. только в безусловной вере в совершенство и правду. У каждого, кого лишают возможности любить безусловно, этим подрезываются в корне его силы: он должен увянуть, т. е. сделаться бесчестным» . Безусловность веры в совершенство и правду может иметь основанием онтологическую реальность высшего совершенства, так эта вера обосновывалась в традиции христианского платонизма. Отвергая онтологическую реальность совершенства, Ницше, казалось бы, не имеет никаких оснований настаивать на безусловности нашей веры. Делая это, он фактически утверждает наличие чего-то абсолютного в бытии, замещающего « высшую реальность» Платона. Нетрудно понять, что здесь речь идет об абсолютности самой веры, т. е. об абсолютности личности , исповедывающей эту веру. Признавая наш эмпирический мир единственным метафизически реальным миром, Ницше сохраняет понятие Абсолюта за счет признания Абсолютом человеческой личности. При этом абсолютность личности у Ницше проявляется через ее способность говорить решительное « нет!» несовершенству и неправде мира, через способность находить в себе идеал совершенства и правды, - пусть даже только « иллюзорный» , но принимаемый безусловно и абсолютно , наперекор грубой фактичности мира явлений . « Так например, - пишет Ницше, - тот факт, что Рафаэль должен был умереть, едва достигнув 36 лет, оскорбляет наше нравственное чувство: существо, подобное Рафаэлю, не должно умирать... Сколь немногие из живущих имеют вообще право жить, когда такие люди умирают! Что живы многие и что тех немногих уже нет в живых, это - только грубая истина, т. е. непоправимая глупость, неуклюжее “ так уж заведено” , противопоставленное моральному “ этого не должно было быть” . Да, противопоставленное моральному! Ибо о какой бы добродетели мы ни говорили - о справедливости, о великодушии, о храбрости, о мудрости и сострадании человека, - везде он добродетелен потому, что он восстает против этой слепой власти фактов, против тирании действительного и подчиняется при этом законам, которые не тождественны с законами исторических приливов и отливов» .
« Эгоизм» , о котором говорит Ницше и в рассматриваемой работе и в последующих сочинениях, нужно понимать как метафизическую концепцию, как утверждение абсолютности каждой личности и ее ответственности за себя и за мир вокруг. В результате, этот « эгоизм» при его правильном понимании и правильном применении к жизни (что доступно, по Ницше, лишь немногим) ведет не к тому, что зовется эгоистическим поведением в нашем обычном словоупотреблении, а скорее к противоположному образу действий - к готовности пожертвовать собой ради великих целей, ради величия личности как такового. Как пишет Ницше, « для чего существует отдельный человек - вот что ты должен спросить у самого себя, и если бы никто не сумел тебе ответить на это, то ты должен попытаться найти оправдание своему существованию, как бы a posteriori, ставя себе самому известные задачи, известные цели, известное “ ради” , высокое и благородное “ ради” . Пусть тебя ждет на этом пути даже гибель - я не знаю лучшего жизненного жребия, как погибнуть от великого и невозможного...»
Обозначенное представление о личности без труда можно обнаружить и в зрелых работах Ницше. Особенно важно это сделать в применении к важнейшему понятию зрелого Ницше - к понятию сверхчеловека. Оказывается, что даже в нем можно найти признание абсолютности каждой конкретной эмпирической личности. В «Так говорил Заратустра» речь идет о «преодолении» человека, и кажется, что если и можно говорить о сверхчеловеке как цели человеческого развития, то лишь в качестве общей, «родовой» цели. Однако слова о «преодолении» человека, о том, что он «мост, а не цель» , можно понять как метафору, обозначающую преодоление человека самим человеком и в самом человеке . Становление сверхчеловека происходит внутри каждой личности и за счет ее глубокой творческой энергии, укорененной в потенциальной бесконечности ее бытия, не знающего ограничений и необходимости. Термины «животное», «человек» и «сверхчеловек», которые заставляют некоторых интерпретаторов говорить об «антигуманизме » Ницше и о забвении им божественного начала личности, на деле служат лишь метафорическому описанию этапов развития личностного начала - укорененного в бытии и принадлежащего бытию как таковому . В этом смысле можно было бы назвать позицию Ницше сверхгуманизмом , поскольку он не просто отвергает отдельную эмпирическую личность за ее несовершенство и творческую «немощь», а требует ее «преодоления», обращаясь в ней самой к ее - пока потенциальной - бесконечной творческой силе. И именно полагание «потенциальной» абсолютности личности (каждой эмпирической личности!) заставляет его быть безжалостным к ее внешней форме, к ее «видимости», которая должна быть преодолена через раскрытие ее подлинной абсолютной полноты.
Такая интерпретация идеи сверхчеловека получает веское подтверждение, если обратить внимание на центральную идею книги «Человеческое, слишком человеческое» - на идею «происхождения» всех наших идей, верований, представлений, а также самой «картины мира», полагаемой нами в качестве «истинного» мира, из процесса становления человека . По сути, Ницше ведет здесь речь о зависимости мира явлений в той форме, которая предстает нам в нашем каждодневном опыте, от человека - о постепенном «складывании» этой формы в рамках истории человека и его сознания. Важно отметить, что это утверждение Ницше ничего общего не имеет с идеей Шопенгауэра о мире как «представлении», это следует хотя бы из того, что точку зрения Шопенгауэра он упоминает как одно из радикальных заблуждений, порожденных верой в наличие «объективной» реальности. Самое главное различие, которое делает новую позицию Ницше скорее противоположной позиции Шопенгауэра, чем схожей с ней, - это решительное отрицание какого-либо «метафизического» мира, т. е. чего-либо находящегося за пределами личности человека и мира явлений, зависимого от личности. По Шопенгауэру, мир, в котором личность обнаруживает себя, есть представление не самой личности, но метафизического Абсолюта, по отношению к которому личность чувствует себя еще более беспомощной и пассивной, чем по отношению к миру. Только полностью отрекаясь от себя, «снимая» себя перед лицом Мировой Воли, человек раскрывает вторичность и иллюзорность мира - точно так же как и иллюзорность своего индивидуального Я.
Ницше утверждает совсем другое: именно совокупность творческих центров Я, совокупность личностных начал, выступающих как подлинно первичное и абсолютное в бытии, «порождает» все мировое бытие, «творит» его. Тот факт, что Ницше не конкретизирует смысл этого «творения», конечно, делает его мысль менее доступной и понятной, однако ее было бы неверно трактовать метафорически, как обозначение производности только «мира» человеческой культуры и человеческих ценностей. Безусловно, здесь необходимо видеть ту форму интерпретации отношения личности к мировому бытию и к бытию как таковому, которая позже была «радикализирована » М. Хайдеггером и превращена в известный постулат о том, что подлинная онтология есть феноменология человеческого бытия, т. е. что главные составляющие реальности в своей онтологической сути «прорастают» из полноты той «открытости» бытия, которая в эмпирическом проявлении есть начало личности каждого из нас (впрочем, нужно отметить, что Хайдеггер, выступая против «антропологизма» в философии, не признает понятие «личность» значимым для своей философии).
Представление о зависимости мира, в той форме, как он явлен нам, от установок и творческой энергии человеческих личностей остается, хотя и важным, но только эпизодом в трудах Ницше. Все свое внимание он обращает на критику того состояния культуры, которое каждый человек застает как данность и которое препятствует раскрытию указанной творческой энергии. Эта сторона взглядов Ницше наиболее ясно и лаконично изложена в небольшой работе Ж. Делеза о Ницше. В своем анализе Делез также приходит к выводу, что в идее сверхчеловека заключено убеждение в бесконечном творческом становлении самого Бытия, концентрирующемся в каждой отдельной личности . Как пишет Делез , Заратустра - это «воплощенное утверждение», он обозначает то состояние человека и культуры, когда в воле к власти начинает господствовать утверждение - после долгого периода господства отрицания (нигилизма) . Утверждается при этом «земля и жизнь», т. е. полнота проявлений человека и всего земного бытия. Поскольку воля к власти в своей универсальности выражает полноту жизни, полноту творческой энергии человеческой личности, то это состояние будет состоянием реализованной абсолютности личности - каждой личности и всей их совокупности, их метафизического единства. Это состояние Ницше и обозначает термином сверхчеловек . «Сверхчеловек, - подводит итог Делез , - означает не что иное, как сосредоточение в человеке всего, что может быть утверждено, это высшая форма того, что есть, тип, представленный в избирательном Бытии, порождение и субъективное начало этого бытия» .
Полностью соглашаясь с этим выводом Делеза , нельзя не отметить, что в нем есть определенная недоговоренность. Если сверхчеловек понимается как «высшая форма того, что есть», как «порождение и субъективное начало» «избирательного Бытия» - т. е. бытия, обладающего способностью к высшей форме становления, к творческому становлению и порождению абсолютно нового , - то возникает естественный вопрос: можно ли понимать сверхчеловека в качестве категории применимой только к будущему состоянию человека и никаким образом не относящейся к человеку в нынешнем его состоянии? Если в своем будущем человек будет способен раскрыть свое значение как абсолютного центра и начала творческого Бытия, очевидно, что это значение не может прийти к нему откуда-то извне. Оно должно всегда присутствовать в нем в некоторой потенциальной форме, требующей раскрепощения и раскрытия. В результате, мы приходим к тому же самому утверждению, которое уже было высказано ранее. Если можно говорить о какой-то связной метафизике, лежащей в основе зрелых сочинений Ницше, то эта метафизика основываются на признании человеческой личности - каждой конкретной личности и метафизического единства всех личностей - в качестве абсолютного начала и источника бытия . При этом отличие того состояния человека, в котором он пребывает сейчас, от состояния, обозначаемого термином «сверхчеловек», заключается «только» в том, что в последнем состоянии человек раскрывает свое подлинное значение, переводит его из формы потенциальности в форму актуальности.
И. И. Евлампиев
Концепция личности в философии Ницше (на материале ранних работ)
В ранних работах Ницше содержится тенденция к признанию абсолютного метафизического значения начала человеческой личности. Согласно Ницше, задача каждого человека - реализовать в эмпирической действительности свою потенциальную абсолютность. Однако в дальнейшем Ницше теряет веру в то, что каждый способен достичь этой цели. Поэтому в более поздних работах он уже обращается не ко всем, а к избранным; это и порождает иллюзию «антигуманизма » Ницше.
I. I. Yevlampiev
The notion of person in Nietzsche’s philosophy (in early works)
Early Nietzsche’s work contain the tendency to recognizing absolute metaphysical meaning of human person. According to Nietzsche, the task of each man consist in realizing in empirical world its potential absoluteness. However Nietzsche had lost later confidence that each man is capable to reach this purpose. Therefore in later work he already addressed not to the all, but to the elite; precisely because of this the illusion of Nietzsche’s «antihumanism » is appearing.
Прежде чем рассматривать ту или иную социальную систему, в которой концепции государства и права играют решающую роль, необходимо сначала изучить и понять природу человека. Откуда произошёл человек? Какова его природа? В чём заключается его призвание? Ибо здесь лежат ответы на вопросы, что есть человек и что есть общество.
А. Человек в целом
Как Ницше понимал этот вопрос? И как разрешил его?
Вплоть до недавнего времени господствующие религиозные догмы и философские системы провозглашали человека существом привилегированным, законченной и совершенной формой, сотворённой Божественным Создателем с особой тщательностью, и чья цель состоит в том, чтобы властвовать над всеми остальными существами, поскольку человек наделен бессмертной душой, что он носит в себе ради будущей вечной жизни в мире ином.
Таким образом, бремя тщетных надежд кардинальным образом исказило природу и предназначение человека с тем, чтобы привести последние в соответствие со страстным верованием в то, что вселенная стремится к некой определенной цели. Согласно этому же верованию, содержа в себе как земное, так и божественное, человеческая природа также должна стремиться к определенной цели.
Естественные науки внезапно разрушили эти надежды, продемонстрировав своими изысканиями, что человек - лишь порождение земли, всего лишь более высокая ступенька лестницы органической жизни, и что «всё есть поток» без цели или предназначения, без воли, без руководящей и направляющей силы.
В этом крахе людских надежд Ницше видит главный источник современного нигилизма, нигилизма пессимистического. В самом деле, вплоть до наших дней человечество считало себя центром всего сущего, солью земли, но теперь внезапно осознало, что человек - всего лишь потомок диких зверей, и что между ним и всей остальной органической жизнью нет сущностной разницы - разница лишь в градации. Хотя Ницше и принимает теорию Дарвина в части происхождения природы человека, он, тем не менее, яростно обрушивается на дарвиновскую теорию естественного отбора, то есть средство, которым природа преследует свою цель «совершенствования» организмов.
Никакого такого совершенствования не существует. В обобщённом смысле растительная и животная жизнь не продвигается целенаправленно от менее законченной к какой-то более законченной форме. Всё это происходит вслепую, случайным образом, бессистемно, беспорядочно, бесцельно. Мало того, более сложные и яркие формы и исчезают легче, и только более низкие и менее совершенные остаются буквально несокрушимыми. Первые и появляются реже и сохраняются хуже; последние же более плодовиты и потому превалируют.
Точно такое же отсутствие цели и точно такое же преобладание посредственных и стадных типов можно обнаружить и при рассмотрении исторической эволюции человечества.
Б. Историческая эволюция человека
«Оно не может считаться целым, это человечество: оно представляет собой тесно переплетающуюся массу восходящих и нисходящих жизненных процессов — у нас нет юности с последующей зрелостью и, наконец, старостью. Напротив, слои лежат вперемежку и друг над другом — и через несколько тысячелетий, может быть, будут существовать более юные типы человека, чем те, которые мы может констатировать теперь. С другой стороны, явления декаданса свойственны всем эпохам человечества; везде есть отбросы и продукты разложения» («Воля к власти»).
Ницше приходит к выводу, что на протяжении своей истории человечество как отдельно взятый вид не демонстрирует признаков последовательного систематического прогресса; его общий уровень не повысился ни на йоту. Нельзя отрицать, что, как и в случае с остальными представителями животной и растительной жизни, в пределах человеческого вида существуют более высокие типы; но даже и они, будучи неприспособленными к жизни и бесплодными, надолго не сохраняются. Такие более высокие типы уязвимы и чувствительны к любому давлению извне - и к вырождению изнутри. Они занимают экстремумы, а это уже признак упадка и декаданса. Красота эфемерна, гений стерилен, и у Цезаря нет наследников. В частности, гениальность вообще чрезвычайно утончённая структура, а потому и невероятно хрупкая и скоротечная.
Ницше пытается объяснить этот универсальный феномен через фундаментальную концепцию своей философии: волю к власти. В процессе борьбы за существование, говорит он, исключения будут неизбежно искореняться ради общего правила. Лучшие, пусть они и более сильные и относительно идеальны, находятся в изоляции; они сталкиваются с организованными инстинктами группы и испытывают на себе воздействие систематически упорядоченной и неослабевающей коллективной силы заурядных средних индивидуумов - более того, эта сила куда лучше адаптирована к окружающей среде. Если бы мы захотели обобщить эту суровую реальность в одном кратком нравственном законе, то этот закон можно было бы сформулировать следующим образом:
Средние формы более ценны, чем те, что выше среднего, а те, что ниже среднего, ценнее среднего.
Природа - это жестокая мачеха для в высшей степени превосходных натур.
Стремление к выравниванию и уничтожению отстаивается природой куда сильнее, нежели жажда жизни, и этот закон был сформулирован Буддой, Христом, Шопенгауэром и Гартманом, каждый из которых озвучил следующее: чем жить, лучше не жить вовсе. На что Ницше с явным возмущением возражает: «Я восстаю против такого способа описания действительности с целью извлечения нравственного закона. И по этой причине я питаю смертельную ненависть к христианству за то, что оно создаёт красивые слова и позы, дабы накинуть на ужасающую действительность плащ добродетели, справедливости и божественности».
Несмотря на этот бунт, непримиримая искренность Ницше не позволяет ему увиливать или хранить молчание. Потому, - как он признаётся, - после долгих и беспристрастных поисков он пришёл к выводу, что жизнь не только животных и растений, но и самого человечества регулируется лишь одним законом: волей к власти. Все наши поступки, желания и мысли определяются инстинктами, каждый из которых проистекает из первоначального и фундаментального инстинкта, источника проявлений жизни. Над дарвиновским законом борьбы за существование высится этот закон доминирования, глубоко укоренённый в природе и стремящийся к яркому проявлению, что часто представляет для жизни серьёзную опасность и ведёт к её уничтожению. История, а также любое объективное исследование человеческой природы представляют тому немало примеров. Все наши явные действия и лежащие в их основе склонности регулируются инстинктом. Наше влечение к истине, искусству и прогрессу есть лишь проявление этого инстинкта доминировать. Например, страсть к открытию истины изначально развивалась вовсе не в ожидании тех выгод, что сулит истина сама по себе, а скорее в связи с ожидаемыми преимуществами, которыми истина наделяет тех, кто ей обладает, по отношению к тем, кто невежественен. Лишь намного позже, став неотъемлемой частью духовной жизни, поиск истины побудил человечество преследовать истину исключительно бескорыстно. Точно таким же образом можно объяснить истоки морали, концепций права и эстетических взглядов. Изначально их искали ради относительных преимуществ и превосходства, что они давали, и лишь потом, после того как они стали психологическими потребностями, их поиск превратился в самоцель, независимо от вытекающих из них преимуществ.
Фактически на эти идеи Ницше вдохновило учение Герберта Спенсера. В то время как Спенсер, однако, полагает, что человек благодаря своей приспособляемости неизменно стремится к истине, счастью и альтруистическому поведению, Ницше, напротив, считает, что в основе существования и развития этого определяющего жизнь человека стремления доминировать может лежать не только счастье, но и горе, стремление не только к «добру», но и к «злу», не только истина, но и ложь, не только альтруизм, но и эгоизм.
Таким образом, Ницше предлагает нам чрезвычайно интересное и убедительное объяснение исторического развития человека.
Извратив свои самые разнообразные инстинкты чрезвычайно причудливым образом, человек в итоге пришёл к объективации и обожествлению того, что приносило удовольствие этим инстинктам. Он пришел к поклонению таким удовольствиям как отдельным божествам, как идеалам, что находятся где-то вне него, над ним. Он забыл, что сам создал эти идеалы как средство удовлетворения своих потребностей. Вместо того чтобы говорить: «Я живу для того, чтобы удовлетворять фундаментальные инстинкты жизни, и потому я буду стремиться к добру, справедливости и истине лишь в той мере, в какой они служат этой цели», он на деле говорит: «Я должен стремиться к добру, справедливости и истине не потому, что они полезны мне - это было бы богохульством - но потому что они есть добро, справедливость и истина». Более того: «Моя жизнь представляет собой исключительно средство или инструмент для актуализации этих идеалов».
Таким образом, постепенно и посредством влияния философов и основателей религий, в которых жизненный инстинкт атрофировался в связи с гипертрофией нравственного или научного инстинкта, подлинная сущность человека была искажена, его историческое развитие было направлено по другому пути, а статус самой жизни был низведён до второстепенного. Всё, что до этого момента было обнаружено и использовалось как средство, оказалось преобразовано в цель и возвеличено в таком качестве.
В. Основы природы человека
А) Душа
Ницше приписывает относительно позднюю теорию касательно человеческой души - теорию, утверждающую страшную пропасть между живой и неживой природой -искажающему влиянию религиозных и философских учений.
Изначально, действительно, люди наделяли душой не только самих себя, но и всю природу, тем самым персонифицируя и одушевляя деревья, животных, валуны, молнию и другие природные явления, приписывая им такие человеческие качества, как добросердечие, жестокость, сострадание, мстительность и тому подобное. Таким образом, душа пронизывала абсолютно всё; то была связующая нить между людьми и остальной природой.
Впоследствии основатели религий и философы, дабы заставить людей пренебречь реальной жизнью и последовать за их теориями, умышленно возвысили человечество и сделали душу исключительной прерогативой человечества. Как мы уже отмечали, жизненный инстинкт в них атрофировался вследствие гипертрофии других инстинктов. Их теории ставили центром и целью другую жизнь, буквально жизнь иную. Заявляя, что душа является исключительным достоянием и прерогативой людей, они преуспели в двух вещах:
С одной стороны, они отделили человечество от остальной природы, неодушевлённой природы.
С другой - они обозначили место для человека, место вечной награды. Этого места можно достичь, если человек будет следовать их приказаниям; в противном случае, не подчиняясь их приказаниям, он может рассчитывать лишь на вечную кару.
По Ницше, такое мировосприятие катастрофично для нашей оценки действительности. К счастью, вследствие развития науки прежние представления о душе и бессмертии рухнули, ознаменовав наступление новой эпохи - сильной и мужественной, подходящей для тех, кто способен сопротивляться и выживать после краха столь безосновательной человеческой привилегии.
Приветствуя эту новую эпоху, Ницше торжествующе восклицает: «Одно из наиболее полезных завоеваний человеческого духа есть отказ от существования бессмертной души. Человечество, не принуждаемое более к поспешному принятию непроверенных идей, как это бывало раньше, теперь имеет право подождать, посвятив прилежному изучению не один год. Ибо в прежние времена спасение несчастной бессмертной души зависело от воззрений, что формировались в течение краткого промежутка земной жизни, потому человеку надлежало как можно быстрее принять решение; знание обладало огромным значением. И, о чудо, мы наконец получили право обманываться, предпринимать попытки и терпеть неудачи, принимать идеи лишь на время, постоянно склоняться к новым идеям, двигаться вперёд; и, таким образом, отдельные люди и целые поколения наконец обладают правом на попытки свершения удивительных деяний, которые прежде показались бы безумными и непочтительными по отношению к небу и земле».
Несмотря на всё это, Ницше не может отрицать, что эта старая вера в существование души в значительной мере сформировала внутренний мир человека. И здесь мы снова отмечаем всепоглощающую искренность Ницше. По Ницше, наш мир стал представляться более глубоким и широким с момента обращения потока человеческих эмоций вовнутрь. Человеческий инстинкт независимости и неограниченной свободы, неспособный в связи с давлением общественных преград устремиться вовне, обратился против своего носителя. Так родилась «беспокойная совесть», тогда как негодование, жестокость, необходимость сокрушать и преследовать повернулись вовнутрь и теперь обратились против того, кто также обладает и инстинктом свободы. Точно так же посаженные в клетку дикие звери кусают железные прутья и непоправимо калечат себя, терзаясь воспоминаниями о былой свободе в лесу.
С этого момента и укоренились наиболее серьезные и наиболее парадоксальные из болезней, от которых человечество не в состоянии излечиться и по сию пору: резкий разрыв с животным прошлым, прыжок в новый способ существования, объявление войны древним инстинктам, что прежде обуславливали всё, что было могучим и грозным в человеке. В конце концов, эта недавно изобретенная человеческая душа предложила миру элемент столь новый и глубокий, загадочный, изобилующий противоречиями и надеждами, что лик земли и в самом деле изменился. Именно с этого момента человечество начинает выказывать любознательность, тревожное ожидание и безграничную надежду.
Исходя из этой точки зрения, появление в мире понятия души представляет собой событие исключительной значимости и неисчислимых последствий. Не потому, что эта душа существует, но потому что возникла вера в её существование; следовательно, могут быть созданы новые, прежде неслыханные потребности, может быть расширена интенсивность человеческой деятельности, а человеческая воля может начать тянуться к господству за пределами этого мира, за пределами этой жизни, за пределами отпущенного ей времени. Понятие души стало настолько неразрывно связано с нашими духовными и жизненными проявлениями, что это оказало глубочайшее влияние на мораль, концепции государства и права, а также на каждый вид человеческой деятельности.
Б) Свобода воли
Резюмируя вышесказанное, Ницше яростно отвергает все утверждения о существовании бессмертной души, ни в коей мере при этом не игнорируя те неоценимые последствия, что проистекают из такого верования. С не менее страстной убеждённостью Ницше отвергает и другой основополагающий принцип нынешнего табеля ценностей - свободу воли.
По Ницше, не существует никакой свободы или несвободы воли. Есть только слабая воля, влияние которой несущественно. Выражения вроде «сильный господствует над беззащитным» или «свет светит» - суть пустая тавтология: у света нет выбора, светить ему или нет; до тех пор, пока он не светит, о его существовании просто не приходится говорить. Точно так же сила, проявляющаяся в деяниях сильного, не есть нечто существующее само по себе и независимо от своего проявления. Эта сила существует лишь в своих проявлениях и в той мере, в какой она проявляется; это не антецедент. Из этого следует, что силе не может приписываться какая-либо свобода или несвобода воли. У силы нет выбора в отношении того, проявлять ли себя мягко или резко. Массовое сознание, однако, не смогло разобраться в этом вопросе и потому провело произвольное различие между волей и её проявлениями. За видимыми последствиями сильной воли, то есть за деяниями воли массовое воображение слепило сущность, которую оно назвало «свободой воли» и которой приписало способность воли свободно проявлять себя в том или ином аспекте.
Такое понятие свободы воли представляет собой измышление слабых и упадочных, которые только таким образом могли выставить себя не только равными, но даже превосходящими своих естественных господ. При условии, что ценность человека не зависит от того количества силы, которое он имеет в своем распоряжении, тот, кто применяет эту силу мягко и вяло - следовательно, слабо - превосходит того, кто не способен обуздать свою волю и тяготеет к её реализации грубым и деспотическим образом.
Такая теория свободы воли была также охотно принята сильными, потому что её вполне можно признать за свидетельство человеческой достоинства: человек тогда способен взять на себя полную и безраздельную ответственность за свои действия - как добрые, так и злые - и таким образом обрести независимость от любой высшей воли, что стремится управлять им.
Такой способ осмысления данного вопроса глубоко антирелигиозен. И те, кто вместе с Августином и его рупором Лютером заявляли, что самовольная свобода ведёт к отречению от Христа, прекрасно уловили суть религии и, в частности, христианства. В соответствии с их словами, все наши поступки предопределены свыше и бессильно сгибаются под тяжким весом божественной благодати.
Вплоть до сегодняшнего дня человечество колебалось между этими двумя полюсами. В наше время теория свободы воли - фундамент современного табеля ценностей - с грохотом ниспровергается исследованиями в области наследственности, оценкой воздействия естественной и социальной среды и более глубоким анализом внутренних механизмов, составляющих природу человека. По Ницше, «вы приходите в этот мир, порождённые родителями, что растратили свои нравственные силы, вложенные в них предыдущими поколениями. Вы неисправимы, то есть вас ждёт либо тюрьма, либо сумасшедший дом. Нравственный упадок является следствием упадка физического. Порочность столь же неумолимо передаётся по наследству, что и хилость. Порок не причина, а следствие».
Вокруг нас бродит Необходимость, всемогущая, попирающая людские судьбы. Мы склонны называть эту Необходимость свободой воли. Для одних эта Необходимость носит неумолимый и принудительный характер, прикрываясь маской их страстей; для других она прикрывается маской морали и послушания, потому что эти люди по природе своей никогда не подпадут под влияние сильных страстей и охотно подчиняются нравственным ограничениям. Для третьих Необходимость надевает маску здравого смысла и научного поиска, а для четвёртых - маску эксцентричности и беспечного легкомыслия.
Тем не менее, все вышеперечисленные стремятся поместить свободу воли именно туда, где они связаны необходимостью - и такая связь совершенно не зависит от их воли. Это сродни утверждению, что гусеница плетёт свой кокон посредством реализации свободы воли, или что свобода воли огня влечёт за собой горение.
Рассмотрев ещё внимательнее это психологическое заблуждение, мы способны обнаружить источник, неосознанно породивший идею свободы воли. Как мы уже отмечали, это заблуждение было поддержано и пущено в ход слабыми в качестве утешения и сильными из гордости. Ложная идея свободы воли происходит из того, что каждый считает себя более свободным в тех отношениях, в которых его инстинкт оказывается сильнее, так что его удовлетворение, соответственно, также оказывается более доступным и более полным. Этот инстинкт для одних представляется страстью, для других - чувством долга и жаждой истины, для третьих - причудами или своенравием.
Так в нашем мире возникла иллюзия свободы воли. Подобно вере в существование души, это понятие также превратилось в неотъемлемый атрибут человеческой ментальности и, естественно, оказало серьёзное влияние на социальные институты, что неизбежно, поскольку мораль и право полностью зависят от этой веры в свободу воли. Вследствие этого, оценка поступка, которая на протяжении десяти тысяч лет выносилась по результатам поступка, в наши дни выносится на основании его первопричины. Этот чрезвычайно важный разворот состоялся лишь после долгих усилий и колебаний. К сожалению, первопричину поступка ныне часто путают с предполагаемым намерением, лежащим в основе такого поступка. Согласно господствующему представлению, причина поступка объясняется намерением. И лишь сегодня мы начинаем подозревать, что самый важный элемент, позволяющий нам оценить значимость или несущественность поступка, на самом деле сокрыт за намерением - это нечто поистине таинственное и независимое от воли. Намерение представляет собой не что иное, как симптом, требующий объяснения, - симптом, сотворённый неизвестными факторами. По этой причине сегодняшняя мораль в целом несправедлива и обманчива, поскольку покоится на ошибочном постулате, что о поступках можно судить в соответствии с лежащими в их основе побуждениями - побуждениями, о которых невозможно доподлинно знать.
И сегодня, когда механизм, побуждающий к действию, стал более понятным и мы начинаем, хотя и смутно, различать те мотивы, что движут нашими действиями, высший долг просвещённых умов состоит в том, чтобы начать проповедовать и выстраивать новую мораль, полностью выходящую за пределы нашей нынешней морали, на новых, более верных и высоких основах.
Тем не менее и несмотря на все трудности касательно создания новой морали, недавнее научное открытие полной природной безответственности людей, когда речь заходит о происхождения и анатомии их действий, представляет собой самое горькое средство испытания для мудрых - тех, кто ищет в личной ответственности свидетельства и отличительные знаки человеческого величия и достоинства. Это горчайшее испытание, поскольку суждения, предпочтения и антипатии теперь полностью лишаются ценности и веса. Из этого следует, что святое воодушевление мученика и героя само зиждилось на лжи. Не стоит больше им аплодировать или порицать их, поскольку восхвалять или осуждать естественные законы и необходимость поистине абсурдно и смешно. Точно такую же позицию, что мы занимаем в отношении проявлений растительной жизни, - бесстрастную объективную - мы должны занимать в отношении наших собственных действий и действий других. В человеческих поступках можно восхищаться силой и спонтанным импульсом, но не моральной ценностью. Всё вытекает из необходимости - вот что гласит новая мудрость. Само по себе всё невинно. Мудрость есть единственный путь, что ведёт к осознанию такой всеобщей невинности и необходимости.
Аналогичным образом, вследствие научных исследований рушатся три фундаментальные ценности, что выгравированы на скрижалях современных десяти заповедей:
(а) существование цели как в природе, так и применительно к человечеству;
(б) существование бессмертной души;
(в) существование свободы воли.
Как избежать пессимизма и нигилизма тому, кто полагается на эти хрупкие и обманчивые обещания, сулимые нашим табелем ценностей? Как современному человеку отвести взор от дилеммы, что ставит перед ним Ницше:
Либо уничтожить самого себя;
Либо разбить и уничтожить нынешний табель ценностей.
В) О человеческом равенстве
По Ницше, современный табель содержит в себе ещё одну ценность, что неизбежно и c катастрофическими последствиями ведёт к нигилизму и потому должна быть беспощадно выброшена из такого табеля. Согласно Ницше нет более губительного яда, нежели принцип равенства. Ницше питает отвращение к Дарвину и Спенсеру, поскольку они властно указывают нам: «Вывернитесь наизнанку, но реагируйте на внешние силы в нужной соразмерности, исчезните, если это нужно ради окружающей вас среды, вливайтесь в целое».
Из этого принципа они вывели закон, который предположительно объясняет всё сущее, тогда как на самом деле существует лишь закон доминирования, вытекающий из естественного закона неравенства, который заставляет каждый живой организм одолевать все остальные. Суть этой борьбы заключается не в том, чтобы выжить или разрастаться, но скорее прожить настолько хорошую, экспансивную и интенсивную жизнь, насколько это возможно. Как и в природе, так с человеческим обществом: не демократия, но аристократия - вот истинный идеал; вернее, даже не аристократия, но монархия и тирания.
«Одни люди по своей природе свободны, другие - рабы, и этим последним быть рабами и полезно, и справедливо». Ницше приветствует это изречение Аристотеля и, как мы увидим в соответствующем разделе ниже, выстраивает на нём всю свою философскую систему морали, государства и права.
Равенства не существует нигде в природе. Равенство есть софизм, используемый слабыми, чтобы ввести в заблуждение и одолеть сильных. Равенство изобретено религией и этикой, проповедовалось утопистами и демагогами, было подкреплено всеобщим избирательным правом, а сегодня стараниями глашатаев социализма грозит уничтожить цивилизацию и всё незаурядное. «Я не хочу, чтобы меня путали с этими проповедниками равенства, - гремит Ницше. - Ибо так гласит справедливость: «Люди не равны». («Так говорил Заратустра»). Поскольку люди не равны, то потому неверно, чтобы все они обладали равными правами или равными обязанностями. Неравное распределение неравных прав и обязанностей среди неравных существ - такова, по Ницше, высшая справедливость.
По сути, сегодня посредственность, широкие массы, «стадные животные» сбиваются в толпу и единым фронтом обрушиваются на всякое возвышающееся исключение, отпихивая его в сторону. Равные права, которых они требуют, есть не что иное, как равенство в несправедливости - несправедливости, что свершается в такой широкой борьбе против всего редкого и уникального. В конце концов, инстинкт толпы трудно обмануть; её стремление - подавить незаурядное. Инстинктивно толпа чувствует, что великие люди опасны, это вредоносные продукты случайности, учитывая, что такие натуры обладают силой пересмотреть и ниспровергнуть всё то, что выстраивали поколения посредственности.
Потому среди этих банальнейших демократических умонастроений, порожденных идеей людского равенства, идеал благородного человека заключается в том, чтобы дистанцироваться от стада, стремиться к одиночеству, уединению и жить по ту сторону добра и зла.
Сегодня ослабление людей и стирание между ними различий представляет собой серьёзнейшую опасность. Это зрелище может истощить человеческую душу. В нашей эпохе нет места исключительному, всё сужается, ослабевает, становится безвредным, безвольно благоразумным, посредственным и потому незначительным. Мы перестали опасаться человеческой природы, но то же самое время перестали любить человеческую природу и надеяться на неё. В наши дни один лишь вид человеческого существа вызывает скуку и приводит в уныние. Как ещё это можно назвать, если не нигилизмом? И чем ещё может быть обусловлен нигилизм, если не этой четвёртой выявленной ложной ценностью (людское равенство), выгравированной в современном табеле?
перевод: kapetan_zorbas
"Mihi ipsi scripsi!" ("Обращаю к самому себе") - не раз восклицал Ницше в своих письмах, говоря о каком-либо законченном им произведении. И это немало значит в устах первого стилиста нашего времени, человека, которому удавалось найти, можно сказать, исчерпывающее выражение не только для каждой мысли, но и для тончайших ее оттенков. Тому, кто вчитался в произведения Ницше, слова эти покажутся особо знаменательными. Ведь, по сути, он и думал, и писал только для себя, и только самого себя описывал, превращая свое внутреннее "я" в отвлеченные мысли.
Если задача биографа заключается в том, чтобы объяснить мыслителя данными его личной жизни и характера, то это в очень высокой степени применимо к Ницше, ибо ни у кого другого внешняя работа мысли и внутренний душевный мир не представляют такого полного единения. К нему наиболее применимо и то, что он сам говорит о философах вообще: все их теории нужно оценивать в применении к личным поступкам их создателей. Он выразил эту же мысль в следующих словах: "постепенно я понял, чем до сих пор была всякая великая философия - исповедью ее основателя и своего рода бессознательными, невольными мемуарами" ("По ту сторону Добра и Зла").
Этим я и руководствовалась в своем этюде о Ницше, набросок которого прочла ему в октябре 1882 года. К самому "учению Ницше" я еще тогда не приступала. Однако из года в год, по мере появления новых произведений Ницше, мой этюд о нем разрастался. Свою исключительную задачу я видела в характеристике основных черт духовного облика Ницше, которые обуславливали развитие его философских идей. Тот, кто стал бы оценивать Ницше как теоретика, взвешивать, что внес он в отвлеченную философскую науку, тот испытал бы разочарование и не постиг бы истинного источника силы Ницше. Значение этих идей не в их теоретической оригинальности, не в том, что может быть теоретически подтверждено или опровергнуто; все дело в той интимной силе, с которой личность обращается к личности, в том, что, по его собственному выражению, может быть опровергаемо, но не может быть "похоронено".
Кто, с другой стороны, захочет руководствоваться лишь внешней жизнью Ницше для понимания его внутреннего мира, тот опять-таки будет держать в руках лишь пустую оболочку.
Ведь в сущности никаких внешних событий в его жизни не происходило. Все переживаемое им было столь глубоко внутренним, что могло находить выражение лишь в беседах с глазу на глаз и в идеях его произведений. Монологи в миниатюре, которые составляют, главным образом, его многотомные собрания афоризмов, образуют цельные обширные мемуары, высвечивая его собственный духовный облик. Этот облик я и попытаюсь воспроизвести здесь, передавая события - картины - его душевной жизни через его же философские изречения.
Хотя за последние годы о Ницше говорят больше, чем о каком-либо другом мыслителе, основные черты его духовного облика почти неизвестны. С тех пор как маленький, разрозненный кружок читателей, которые действительно понимали его, превратился в обширный круг почитателей, он стал достоянием масс, испытав при этом судьбу всякого автора афоризмов. Отдельные его идеи, вырванные из контекста и допускающие вследствие этого самые разнообразные толкования, превратились в девизы для разных, порой противоположных идейных направлений, и раздаются в ожесточенных спорах, в борьбе убеждений, в столкновениях различных партий, совершенно чуждых их автору. Конечно, этому обстоятельству он обязан своей быстрой славой, внезапным шумом, который поднялся вокруг его мирного имени, - но то истинно высокое, истинно самобытное, что таилось в нем, по этой причине оказалось незамеченным, непознанным, быть может, даже отошло в более глубокую тень, чем прежде. Многие, правда, еще превозносят его достаточно громко, со всей наивностью слепой веры, не знающей критики, но именно они и напоминают невольно о его собственных жестоких словах. В своем разочаровании он говорит: "Я прислушивался к отклику и услышал лишь похвалы" ("По ту сторону Добра и Зла"). Едва ли кто-то пошел за ним, прочь от людей и повседневности, в одиночество своего внутреннего мира, едва ли хоть кто-нибудь сопутствовал этому недоступному, одинокому, замкнутому, странному духу, который мнил себя носителем чего-то безграничного и пал под бременем страшного безумия.
Порою кажется, что он стоит среди людей, ценивших его, как чужой пришелец, как отшельник, который, только заблудившись, попал в их круг. С закутанной его фигуры никто не снял покрывала, и он стоит с жалобой своего "Заратустры" на устах: "Они все говорят обо мне, собравшись вечером вокруг огня, но никто не думает обо мне! Это та новая тишина, которую я познал: их шум расстилает плащ над моими мыслями".
Фридрих Вильгельм Ницше родился 15 октября 1844 года в семье пастора в Рекене близ Люцена. После окончания школы поступил на филологический факультет Боннского университета, а с 1865 года продолжил учение в Лейпциге, куда последовал за своим учителем - профессором филологии Ричлем. Еще до получения диплома 24-летнего Ницше пригласили занять кафедру. Ницше получил место ординарного профессора классической филологии. Лейпцигский университет дал ему докторскую степень без предварительного экзамена. Он также стал преподавать греческий в третьем (высшем) классе Базельского педагогиума, который представлял нечто среднее между гимназией и университетом. Ницше имел огромное влияние на учеников, обнаружив редкое умение привлекать к себе молодые умы. Историк культуры Яков Бургхарт говорил, что Базель никогда еще не имел такого учителя.
В 1870 году во время франко-прусской войны Ницше был добровольным санитаром. Вскоре после этого у него начались периодические приступы сильных головных болей. "Несколько раз спасенный от смерти у самого ее порога и преследуемый страшными страданиями - так я живу изо дня в день; каждый день имеет свою историю болезни". Этими словами Ницше описывает в письме к одному приятелю страдания, которые он испытывал на протяжении пятнадцати лет. В начале 1876 года из-за частых приступов он был вынужден уйти из педагогиума.
Ницше провел зиму 1876-1877 гг. в мягком климате Сорренто, где жил в обществе нескольких друзей: из Рима приехала его давняя приятельница Мальвида фон Мейзенбух (автор известных "Мемуаров идеалистки"); из восточной Пруссии прибыл д-р Пауль Рэ, с которым Ницше уже тогда соединяла крепкая дружба. Увы, пребывание на юге не облегчило страданий. Ницше был вынужден окончательно бросить преподавательскую деятельность. С 1879 года он оставил и профессуру. Вел, в основном, отшельническую жизнь, чаще в Италии -в Генуе, частью - в Швейцарских горах, в Энгадине, в маленькой деревушке Сильс-Мария. Пожалуй, внешняя сторона его жизни на этом и заканчивается, между тем как духовная его жизнь только тогда в сущности и началась.
Его наружность к тому времени приобрела наибольшую выразительность, в лице его светилось то, что он не высказывал, а таил в себе. Именно эта замкнутость, предчувствие затаенного одиночества и производило при первой встрече сильное впечатление. При поверхностном взгляде внешность эта не представляла ничего особенного, с беспечной легкостью можно было пройти мимо этого человека среднего роста, в крайне простой, но аккуратной одежде, со спокойными чертами лица и гладко зачесанными назад каштановыми волосами. Тонкие, выразительные линии рта были почти совсем прикрыты большими, начесанными вперед усами. Смеялся он тихо, тихой была и манера говорить; осторожная, задумчивая походка и слегка сутуловатые плечи. Трудно представить себе эту фигуру среди толпы - она носила отпечаток обособленности, уединенности. В высшей степени прекрасны и изящны были руки Ницше, невольно привлекавшие к себе взгляд; он сам полагал, что они выдают силу его ума. "Бывают люди, - писал он, - которые неизбежно обнаруживают свой ум, как бы они ни увертывались и не прятались, закрывая предательские глаза руками (как будто рука не может быть предательской!)" ("По ту сторону Добра и Зла").
Такое же значение он придавал своим необычайно маленьким и изящным ушам, о которых он говорил, что это настоящие уши для того, чтобы "слушать неслыханное". (Заратустра).
Истинно предательскими в этом смысле были и его глаза. Хотя он был наполовину слеп, глаза его не щурились, не вглядывались со свойственной близоруким людям пристальностью и невольной назойливостью; они скорее глядели стражами и хранителями собственных сокровищ, немых тайн, которых не должен касаться ничей непосвященный взор. Слабость зрения придавала его чертам особого рода обаяние: вместо того, чтобы отражать меняющиеся внешние впечатления, они выдавали только то, что прошло раньше через его внутренний мир. Глаза его глядели внутрь и в то же время - минуя близлежащие предметы - куда-то вдаль, или, вернее, они глядели внутрь, как бы в безграничную даль. Ведь в сущности вся его философия была поиском, изыскиванием в человеческой душе неведомых миров, "неисчерпанных возможностей" ("По ту сторону Добра и Зла"), которые он создавал и пересоздавал. Иногда во время какой-нибудь волнующей его беседы с глазу на глаз он становился совершенно самим собою, и тогда в глазах его вспыхивал и вновь куда-то исчезал поражающий блеск; в угнетенном состоянии из глаз его мрачно струилось одиночество, высвечиваясь как бы из таинственных глубин - глубин, в которых он постоянно оставался один, делить которые не мог ни с кем и пред силой которых ему самому становилось жутко, пока глубина эта не поглотила, наконец, и его дух.
Такое же впечатление - чего-то скрытого, затаенного - производило и обращение Ницше. В обыденной жизни он отличался большой вежливостью, мягкостью, ровностью характера - ему нравились изящные манеры. Но во всем этом сказывалась его любовь к притворству, к завуалированности, к маскам, оберегающим внутреннюю жизнь, которую он почти никогда не раскрывал.
Я помню, при первой моей встрече с Ницше - это было весной, в церкви св. Петра в Риме - его намеренная церемонность меня удивила и ввела в заблуждение. Но недолго обманывал относительно самого себя этот одинокий человек: он неумело носил свою маску, наверное, так, как носит обычное платье горожан пришедший с горных высот и из пустынь человек. Ницше сам сформулировал это, написав: "Относительно всего, что человек позволяет видеть в себе, можно спросить: что оно должно собою скрывать? От чего должно оно отвлекать взор? Какой предрассудок должно оно задеть? И затем еще: как далеко идет тонкость этого притворства? В чем человек выдает себя при этом?"
По мере того, как росло в нем чувство уединения, все, обращенное к внешнему миру, становилось притворством - обманчивым покрывалом, которое ткала вокруг себя глубочайшая страсть одиночества, как бы временной внешней оболочкой, видимой для человеческого глаза. "Люди, глубоко думающие, кажутся себе актерами в отношениях с другими людьми, ибо для того, чтобы быть понятыми, они должны надеть на себя внешний покров". ("Человеческое, слишком человеческое"). Можно сказать, что идеи Ницше подобны "коже, которая кое-что выдает, но гораздо больше таит" ("По ту сторону Добра и Зла"); "потому что", - говорит он, - "нужно или скрывать свои мысли, или скрывать себя за своими мыслями" ("Человеческое, слишком человеческое"). "Все, что глубоко, любит маски... Всякий глубокий ум нуждается в маске: скажу более, - у каждого высокого ума постоянно образуется маска":
- "Странник, это ты?.. Отдохни здесь... Оправься!.. Что послужит тебе отдохновением?"...
- "Отдохновением? Отдохновением? О любопытный, что ты говоришь! Но дай мне, прошу тебя?"...
- "Что? Что? назови!"...
- "Еще одну маску! Вторую маску!"... ("По ту сторону Добра и Зла").
И в той степени, в какой его уединенность и самоуглубление становятся все сосредоточеннее, значение каждой новой маскировки делается все глубже. Истинная сущность прячется за формой выражения, внутренняя - за усвоенной маской. Уже в "Страннике и его тени" он указывает на "маску посредственности". "Посредственность, - говорит он, - одна из самых счастливых масок, которую может надеть высший ум, потому что в ней толпа, т. е. именно средние люди, не станут подозревать притворства, а между тем он наденет ее ради самих людей, - чтобы их не раздражать, нередко даже из сострадания и доброты". От этой маски невинности и незлобивости Ницше доходит, варьируя формы притворства, до маски ужаса, за которой скрывается нечто еще более ужасающее: - "иногда даже глупость делается маской рокового, слишком уверенного в себе знания" ("По ту сторону Добра и Зла"). В конце концов он приходит к обманчивому образу богоподобно смеющегося, и в нем стремится замаскировать скорбь красотой. Таким образом в своей философской мистике последнего периода Ницше постепенно погружается в то последнее для себя уединение, в ту тишину, куда мы уже не в силах последовать за ним; с нами остаются только, как символы и указания, смеющиеся маски его идей и толкований, в то время как сам автор уже стал для нас тем, кем он сам назвал себя в одном из писем: "Навеки утраченный". (Письмо от 8 июля 1881 г. из Сильс-Марии).
Чувство внутреннего уединения, одиночества составляют во всех блужданиях Ницше неизменную раму, из которой глядит на нас его образ. Он пишет своему другу (31 октября 1880г., Италия): "Одиночество все более кажется мне и целительным средством, и естественной потребностью, и именно полное одиночество. Нужно уметь достигнуть того состояния, в котором мы можем создать лучшее, на что мы способны, и нужно принести для этого много жертв".
Не раз мучительная жажда выздоровления приводила Ницше к новым идеям. Но стоило ему отразить себя в них, ассимилировать их своей собственной силой - как его охватывала новая горячка, тревожно толкающая избыток его внутренней энергии, который, в конце концов, направлял жало против него самого, делая его больным самим собою. "Только избыток силы есть доказательство силы", - сказал Ницше в предисловии к "Сумеркам Богов"; - в этом излишке сила его сама создает себе страдания, изводит себя в мучительной борьбе, возбуждает себя к мукам и потрясениям, которыми обусловливается творчество духа. С гордым восклицанием: "что не убивает меня, то делает меня сильнее!" ("Сумерки Богов"), - он истязает себя не до полного изнеможения, не до смерти, а как бы нанося себе болезненные раны, в которых он так нуждался. Этот поиск страдания проходит через всю деятельность Ницше, образуя истинный источник его духовной жизни. Лучше всего это выразилось в следующих словах: "Дух есть жизнь, которая сама же наносит жизни раны: и ее собственные страдания увеличивают ее понимание - знали ли вы уже это раньше? И счастье духа заключается в том, чтобы быть помазанным и обреченным на заклание - знали ли вы уже это?.. Вы знаете только искры духа: но вы не видите, что он в то же время и наковальня, и не видите беспощадность молота!" ("Так говорил Заратустра").
"Упругость души в несчастии, ее ужас при виде великой гибели, ее изобретательность и мужество в том, как она носит горе, смиряется и извлекает из несчастия всю его пользу, и, наконец, все, что ей дано, - глубина, таинственность, притворство, ум, хитрость, величие - разве это дано ей не среди скорбей, не в школе великого страдания? ("По ту сторону Добра и Зла"). Ницше всякий раз нужно, чтобы душа пламенела для того, чтобы получить ясность и яркий свет познания, но пламень этот никогда не должен превращаться в благотворную теплоту, а должен ранить сжигающими и сверкающими огнями.
"Может ли влечение к жестокому, страшному, злому, загадочному исходить из довольства, из полноты, даже избытка здоровья?.. Бывают ли - вопрос для психиатров -неврастеники здоровья?" (Опыт самокритики к новому изданию "Рождение трагедии из духа музыки").
Эта необыкновенная способность уживаться заново с самым тяжелым насилием над собой, осваиваться с каждым новым пониманием вещей существовала как бы для того, чтобы разлука со вновь приобретенным делалась с каждым разом все более потрясающей. "Я иду! Сожги свою хижину и иди мне навстречу!" - повелевает ему дух, и упрямой рукой он вновь и вновь лишает себя крова и идет в темницу, навстречу приключениям, с жалобой на устах: "Я должен снова подняться на ноги, на усталые, израненные ноги: но я вынужден это сделать, и на самое прекрасное, не имевшее силы удержать меня я оглядываюсь злобным взором - именно потому, что оно не смогло удержать меня!" ("Веселая наука"). Как только ему становилось отрадно среди какого-нибудь миросозерцания, на нем самом исполнялось его же пророчество: "Кто достиг своего идеала, тот тем самым и перешагнул через него" ("По ту сторону Добра и Зла").
Перемены воззрений, склонность к метаморфозам лежат в самой глубине философии Ницше и как бы образуют лейтмотив его системы познания. "Мы бы не дали себя сжечь за свои убеждения", - сказано в "Страннике и его тени", - "мы не настолько уверены в них. Но, быть может, мы пошли бы на костер за свободу иметь мнения и иметь право менять их". В "Утренней заре" этот взгляд отражен в следующих прекрасных словах: "Никогда ничего не утаивать, не скрывать от себя того, что может быть сказано против твоей идеи. Это ты должен обещать самому себе! Это первый долг честного мыслителя. Нужно каждый день вести крестовый поход против самого себя. Победа и завоевание крепости уже касаются не тебя, а истины - но и твое поражение не должно смущать тебя!". Заглавием к этим мыслям служат слова: "насколько мыслитель любит своего врага". Но эта любовь к врагу исходит из смутного предчувствия, что во враге скрывается, быть может, будущий союзник и что только побежденного ждут новые победы: она исходит из предчувствия, что однообразный мучительный процесс внутренних метаморфоз составляет необходимое условие всякого творчества. "Дух спасает нас от полного нетления и превращения в обгоревший уголь. - Спасаясь от огня, мы шествуем, побуждаемые духом, от мнения к мнению, - как благородные предатели всего на свете" ("Человеческое, слишком человеческое"). - "Мы должны стать предателями, совершать измены, покидать свои идеалы". ("Человеческое, слишком человеческое"). Этот одинокий человек должен был умножаться, распадаться на множество мыслителей по мере того, как он замыкался в самом себе; - только таким образом он мог жить духовной жизнью. Влечение к насилию над самим собой было своего рода стремлением к самосохранению; только погружаясь во все новые муки, он спасался от своих страданий. "Я неуязвим только в моей пяте!... И только там, где есть гробы, возможно воскресение!.. Так пел Заратустра" - "тот, которому жизнь однажды открыла следующую тайну: "смотри", - сказала она, - я - то, что должно быть всегда побеждаемо". Вследствие этого влечения Ницше превращался более, чем сам этого желал, в "Дон-Жуана познания", которого он следующим образом характеризовал ("Утренняя заря"): "он умен, предприимчив и с наслаждением заигрывает с истиной, охотится за ней, преследуя ее до самых высоких и далеких звезд познания до тех пор, пока уже ничего не остается, за чем бы охотиться, кроме поставляющего неизбежно страдание. Таким образом, ему хочется в конце концов познать ад - это последнее увлекающее его познание. Быть может, оно так же разочарует его, как все, что познано! И тогда пришлось бы ему стоять среди вечности, будучи прикованным к разочарованию и превратившись самому в каменного гостя, с жаждой вечерней трапезы познания, которая никогда более уже не выпадет на его долю! Ибо во всем мире предметов уже нет куска, который можно было бы предложить в пищу этому голодающему".
Мучительное сознание собственного несовершенства влекло его к идеалу: "Наши недостатки - глаза, которыми мы можем увидеть идеал" ("Человеческое, слишком человеческое"). Я прибавляю к этому три афоризма, которые он однажды написал для меня и в которых его миросозерцание отразилось с особой резкостью:
"Противоположностью героического идеала является идеал гармоничного, всестороннего развития, - прекрасный и крайне желательный контраст! Но это идеал только вполне хороших людей (например, Гете) .
И третий афоризм: "Люди, которые стремятся к величию, обыкновенно дурные люди, это единственный для них способ переносить самих себя". Слово "дурной", так же, как выше слово "хороший", не употреблены здесь в обычном своем значении и вообще не выражают никакой оценки; они только служат определением известного состояния души.
Словом "дурной" Ницше обозначает "внутреннюю войну" в человеческой душе, то, что впоследствии он называл "анархией инстинктов".
Он отличает гармоничную или цельную натуру от героической или состоящей из противоположностей; они являются типами деятельного и познающего человека, другими словами: типом его собственной души и диаметрально ей противоположной. Человеком деятельным он считает нераздельного и не знающего разлада, т.е. человека с инстинктом прирожденного властелина. Когда такой человек следует своему естественному развитию, его натура должна становиться все увереннее в себе и обнаруживать свою сосредоточенную силу в здоровых поступках. Препятствия, которые ставит ему внешний мир, только еще более возбуждают его деятельность: ибо нет для него более естественного состояния, чем борьба с внешним миром, и ни в чем его здоровье не обнаруживается полнее, чем в его умелом ведении борьбы. Все равно, велик или мал его ум: в том и в другом случае он стоит во власти этой свежей силы своей натуры и того, что ей необходимо и полезно. Он не противопоставляет в своих стремлениях самого себя своей природе, он не разлагает ее, не идет по своим собственным следам. Тут Ницше понимает Гете совершенно иначе, чем несколько лет спустя в ("Сумерках Богов"). Здесь он еще видит в нем антипода своей собственной негармоничной натуры, а впоследствии он усматривал в нем глубоко родственный дух, который не был гармоничным по природе, а создал сам свою гармоничность переделав себя и принеся в жертву свое прежнее "я". Совершенно иным представляется познающий человек. Вместо того, чтобы стремиться к объединению своих стремлений, к единству, оберегающему и сохраняющему их, он дает им развиться в какие угодно стороны: чем шире область, которую они стремятся захватить, тем лучше, чем больше предметов, к которым они протягивают свои щупальцы и которые они рассматривают, щупают, слушают, тем полезнее это для его целей - для целей познания. Для него "жизнь становится средством познания" ("Веселая наука"), и он говорит, обращаясь к своим единомышленникам: "Будемте сами объектами экспериментов, живым материалом для опытов!" (там же). Таким образом он сам разрушает свое единство - чем многостороннее субъект, тем лучше:
"Резкий и мягкий, грубый и нежный, доверчивый и странный, грязный и чистый, соединение глупца и мудреца - я все это и хочу всем этим быть - и голубкой, и в то же время змеей и свиньей".
"Ибо мы, познающие, - говорит он, - должны быть благодарны Богу, дьяволу, овце и червю в нас... также внешним и внутренним душам, глубину которых нелегко постичь, с их внешними и внутренними пространствами, до крайнего предела которых не смогут добежать ничьи ноги" ("По ту сторону Добра и Зла"). Познающий обладает душой, "которая имеет самую высокую лестницу и может наиболее глубоко опуститься в землю, самую обширную душу, которая имеет возможность широко блуждать и бродить в себе самой, которая бежит от себя самой и нагоняет себя в самых далеких кругах; самую мудрую душу, которой безумие нашептывает сладкие речи, - наиболее любящую себя душу, в которой все имеет свое течение и истечение, свои приливы и отливы..." ("Так говорил Заратустра").
С такой душой человек обретает "тысячу ног и тысячу щупальцев" ("По ту сторону Добра и Зла") и постоянно стремится убежать от самого себя и ввести себя в другое существо: "Когда, наконец, находишь самого себя, нужно уметь от времени до времени терять себя и потом опять находить. Конечно, это относится только к мыслителю: ему вредно быть всегда замкнутым в одной личности" ("Странник и его тень"). To же самое говорят и его стихи: "Мне ненавистно вести самого себя! Я люблю подобно лесным и морским животным потерять себя на долгое время, задумчиво бродить в заманчивой чаще. Издалека, наконец, приманить себя домой и завлечь самого себя к себе"! ("Веселая наука").
Такая жизнь "в себе" становится тем менее воинственной по отношению к внешнему миру, чем более она полна войнами, победами, поражениями и завоеваниями среди своих собственных порывов. В одиночестве своего духовного самоуглубления и саморазвития она ищет скорее оболочку, которая бы оберегала ее от громких и наносящих раны событий внешнего мира. И без того внутренний мир полон страданий и ран. К этому типу познающего человека относится описание Ницше: "вот человек, который постоянно испытывает необычайные вещи, видит, слышит, подозревает, надеется, мечтает; которого его собственные мысли поражают и ранят, как нечто приходящее извне, как своего рода события и удары". ("По ту сторону Добра и Зла").
Взаимная вражда порывов в душе его не уничтожена, а скорее напротив, усилилась. "И кто будет судить об основных влечениях человека по тому - действовали ли они как вдохновляющие духи, демоны и кобольды, тот найдет, что каждое из них хотело бы выставить именно себя конечной целью мироздания, владыкою всех прочих влечений. Ибо каждое влечение властолюбиво и старается философствовать в своем духе" ("По ту сторону Добра и Зла").
Именно поэтому "познание познающего свидетельствует о нем самом, т. е. "о том, в каком отношении друг к другу стоят внутренние влечения его натуры" (Там же).
Я помню одно устное изречение Ницше, которое очень верно характеризует эту радость человека, познающего ширину и глубину своей натуры - радость, порожденную тем, что его жизнь сделалась "экспериментом для познающего" ("Веселая наука"). "Я подобен старому, несокрушимому замку, в котором есть много скрытых погребов и подвалов; в самые скрытые из подземных ходов я еще сам не пробирался, в самые глубокие подземелья еще не спускался. Разве они не находятся под всем построенным? Разве из своей глубины я не могу подняться до земной поверхности во всех направлениях? Разве через всякий потайной ход мы не возвращаемся к самим себе"?
Таким образом широта и сложность негармоничной, "лишенной стиля" натуры становятся громадным преимуществом: "если бы мы хотели и осмеливались создать архитектуру, соответствующую нашей душе, то нашим образцом был бы лабиринт!" ("Утренняя заря"), но не такой лабиринт, в котором душа теряет себя, а из запутанности которого она находит путь к познанию". "Нужно носить еще в себе хаос, чтобы родить блуждающую звезду", - это изречение Заратустры относится к душе, которая родится для звездного существования, для света как для своей истинной сущности, для своего апофеоза.
Чтобы понять до конца весь смысл Ницше, необходимо понять психологию религиозного чувства. Из всех дарований Ницше нет ни одного, который бы глубже и неразрывнее был связан со всем его духовным существом, как его религиозный гений. В другое время, в другой период культуры он помешал бы этому пасторскому сыну стать мыслителем. Но среди влияний нашей эпохи его религиозный гений обратился на познание. Все его развитие вышло в значительной степени из того, что он потерял веру, из "скорби о смерти божества", этой безграничной скорби, которая звучит вплоть до последнего произведения, написанного Ницше уже на грани безумия, - до четвертой части его "Так говорил Заратустра". Ведь если множество отдельных, не связанных между собой порывов распадается на две как бы противопоставленные одна другой сущности, из которых одна властвует, а другая покоряется ей, человек находит возможность относиться к себе как к высшему существу. Тем, что он принес в жертву самому себе часть себя, он приблизился к религиозному экстазу.
"В человеке соединяются тварь и творец: в человеке есть материя, недоделанность, избыток, прах, нечисть, бессмыслица, хаос; но есть в нем и создатель, художник, есть в нем твердость молота, божественность созерцателя, настроение седьмого дня..." ("По ту сторону Добра и Зла"). И здесь видно, как непрерывное страдание и бесконечное самообожествление обуславливают одно другое тем, что каждое создает сызнова свою собственную противоположность. "Всякий, кто когда-нибудь строил новое небо, находил силу для этого лишь в собственном аду". ("К генеалогии морали").
В этих основных чертах натуры Ницше заключаются причины утонченности и экзальтации, присущих, как жгучая пряность, всему высокому и значительному в его философии. Сильнее всего это должен чувствовать неиспорченный вкус молодых и здоровых натур - или же люди, защищенные безмятежностью религиозных воззрений и не испытавшие на самих себе борьбы и страданий атеиста с религиозными влечениями. Но именно это и делает Ницше в столь сильной степени философом нашего времени. В нем выразилось типичным образом то, что глубже всего волнует современность: невозможность удовлетвориться крошками от трапезы современного познания и невозможность отказаться от своего отношения к познанию. Такова великая и потрясающая картина философии Ницше: целый ряд мощных попыток разрешить эту задачу современного трагизма, угадать тайну современного сфинкса и сбросить его в пропасть.
Именно поэтому, если мы хотим разобраться в произведениях Ницше, нам следует обратить внимание на человека, а не на теоретика. В теоретическом отношении он часто опирается на других мыслителей, но то, в чем они достигли своей зрелости, своей творческой вершины, служит ему исходным пунктом для собственного творчества. Малейшее прикосновение, которое испытывал его разум, будило в нем полноту внутренней жизни. Он сказал однажды: "бывают два типа гениев: один, который творит и хочет творить, другой, который дает себя оплодотворять и рождает" ("По ту сторону Добра и Зла"). Он несомненно принадлежал ко второму типу. В духовной натуре Ницше было - доведенное до величия - нечто женственное; но при этом он настолько гениален, что совершенно безразлично, что давало ему первотолчок. Если мы соберем все, что было посеяно в его уме прежними учениями, у нас окажется лишь горстка незначительных зерен; когда же мы вступаем в его философию, нас осеняет лес тенистых деревьев, роскошная растительность дикой, безграничной природы.
Иногда, когда он это чувствовал особенно сильно, он склонялся к тому, чтобы считать истинным именно женский гений; "животные иначе понимают женское начало, чем люди; самка кажется им продуктивным существом... Беременность сделала женщин более мягкими, терпеливыми, боязливыми, покорными; и точно так же духовная беременность делает характер созерцателя похожим на женский - это мужчины-матери" ("Веселая наука").
Перевод Ларисы Гармаш
Глава из книги Игоря Гарина "Ницше", ТЕРРА, М., 2000, 848 с. Примечания и цитирования указаны в тексте книги.
Да, я знаю, знаю, кто я:
Я, как пламя, чужд покоя.
Жгу, сгорая и спеша.
Охвачу - сверканье чуда
Отпущу - и пепла груда.
Пламя - вот моя душа.
И. В. Гёте
Трудно оспорить главный аргумент ницшефобии - разрушительность гения, ниспровержение им всего общепринятого, общеобязательного, массового, соборного. Ницше действительно великий разрушитель, но чего? Все разрушители, по самому большому счету, делятся на две группы - вандалов, варваров, способных к «чистому разрушению», и гениев-матерей, сокрушающих общую веру ради более глубокой новой. За каждой новой парадигмой стоит такой «разрушитель», будь то Ницше, Достоевский, Фрейд или Эйнштейн. В этом ряду Фридрих Ницше отличается лишь тем, что притязал - ни много ни мало - на тотальность, на переоценку всех ценностей, на пересмотр всего общеобязательного и общепринятого. Столь глобальная задача не далась ему полностью, но то, что удалось многое, сомнению не не подлежит - свидетельство тому громкость и продолжительность лая-воя Верных Русланов и большевистских идеологов, не ослабевшего вплоть до нашего времени.
Феномен Ницше - это разрушение традиционных ценностей, достигнутое за счет cаморазрушения, за счет попытки отделить тварь от творца: «Будем по крайней мере помнить, что философия Фридриха Ницше - это уникальный и всей жизнью осуществленный эксперимент саморазрушения «твари» в человеке для самосозидания в нем «творца», названного «сверхчеловеком».
Феномен «Ницше» - это глубоко осознанная вереница отказов и самоотказов, квалифицируемая как «эксцентричность», само-судьба, само-неидентичность. В письме, адресованном П. Дёйссену (1888 г.), Фридрих Ницше признается, что его судьба - изолироваться от собственного прошлого и порвать связывающую с ним пуповину.
Я так много пережил, так много желал и, возможно, достиг, что ничто не в силах вынудить меня к тому, чтобы снова вернуть далекое и утраченное. Резкий перепад внутренних колебаний был чудовищен; насколько безопасно видеть его издалека, открывается мне из этих постоянных epithetis ornatibus, которыми меня награждает со своей стороны немецкая критика («эксцентричный», «патологичный», «психиатричный» et hoc genus omne). Этим господам, которые не имеют никакого понятия о моем центре и той великой страсти, ради которой я живу, трудно понять, где я прежде действительно был вне моего центра, где я действительно был «эксцентричен».
Задаваясь вопросом: «Почему я (есть) судьба?» - Ницше как бы констатирует парадоксальный факт, что он является судьбой для самого себя. На самом деле каждый человек является одновременно объектом и субъектом судьбы, случайность при этом как бы вторична, ибо сама генетика во многом определяет жизненный путь. Утверждая «я есть судьба», Ф.Ницше мог иметь в виду и свою обреченность на то, что он есть, и множество своих добровольно одетых масок, и внутреннюю склонность к двойничеству, точнее - к многоликости, и самоотчужденность, и протеизм, и склонность к провокации и эпатажу, в конце концов - осужденность на безумие, на самоотождествление с «каждым именем истории».
Не буду оспаривать, что у Фридриха Ницше мы обнаружим немало бравады, фронды, болезненного крика, эпатажа. Он часто напускал на себя вид человека, играющего святынями. Но за всем этим скрывалась не жестокость или мизантропия, а, как писал мой кумир Томас Манн, - трогательное лирическое страдание, сокровенное любовное чувство, горькая жажда любви, которой ему самому досталось так мало...
Понять Ницше - это значит снять с него маски, которые он носил, осознать право мыслителя на провокацию, эпатаж, вызов, игру, дурачество и гримасничанье... Карл Ясперс не без оснований характеризовал Фридриха Ницше как лицедея, буффона, скомороха, носящего маску циника.
Совершенно уникальные неожиданности по этой части ожидают читателя в «Веселой науке», этой, может быть, самой моцартовской книге в мире, написанной «на языке весеннего ветра», безо всякого сомнения, и на «птичьем языке», - книге, редчайшим образом сочетающей в себе глубоко народную, местами даже мужицкую соль с истонченной delicatezza едва уловимых намеков и дуновений, как если бы именно на свирельном фоне пейзажей Клода Лоррена пришлось загулять волынке брейгелевских свадеб. Философу, воспитанному в строгих традициях теоретико-познавательной дисциплины, и в самом дурном сне не приснилось бы, что можно употребить в познание - дурачества и гримасничанье, стало быть, дурачась и гримасничая,- познавать, и причем познавать ту именно микрофизику проблем, которая, как оказалось, и не могла быть познана иначе.
Ницше не скрывал необходимости маскировки, более того, видел в ней способ существования «высокого ума», внутреннюю потребность гения в смене личин:
Всякий глубокий ум нуждается в маске: скажу более - у каждого высокого ума постоянно образуется маска.
Дай мне, прошу тебя!
- Что? Что? Назови!
- Еще одну маску!
Идея масок очень импонировала позднему Мифотворцу: различные этапы и «противоречия» своего мировидения он стал выдавать не за выражение идей, но за «аполлонические образы», скрывающие его вакхическую сущность.
Есть еще одно объяснение «масок», данное самим Ницше: «Мне нужно обвести оградой свои слова и свое учение, чтобы в них не ворвались свиньи». Увы, последнее как раз ему не удалось: маскировка не уберегла его ни от фашистов, ни от наших... Похоже, ограды от свиней вообще не существует - свидетельство тому наши 70 лет...
П. Клоссовски даже безумие Ницше объяснял доведенным до предела «гистрионизмом», бессознательной игрой в маски, страстью к профанации. Возможно, он действительно примеривал на себя самую страшную маску - безумия, но, мне представляется, в его жизни не было ничего, что могло бы испугать его больше, чем утрата собственного «я». Во всяком случае, покушения на самоубийство - уж никак не игра в такого рода маскировку...
Маски сыграли с Мифотворцем злую шутку: многочисленность метаморфоз была расширена интерпретаторами до непозволительных пределов - так возник «психопат» Нордау, одуевский «предтеча нацизма» и «адвокат империализма» с соответствующими этим образам интерпретациями его творчества...
Каким же был Ницше на самом деле? Каков его подлинный облик? Что скрывалось под масками?
Эдуард Шюре рисует нам портрет Ницше: широкий лоб, короткие, остриженные под гребенку волосы, славянские выдающиеся скулы.
По густым нависшим усам и смелым чертам лица его можно было принять за кавалерийского офицера, если бы в его обращении с людьми не было чего-то одновременно и застенчивого, и надменного. Но как обманулся бы тот, кто поверил бы видимому спокойствию его внешности. В пристальном взгляде постоянно сквозила скорбная работа его мысли: это были одновременно глаза фанатика, наблюдателя и духовидца.
А. Риль:
У него была привычка тихо говорить, осторожная, задумчивая походка, спокойные черты лица и обращенные внутрь, глядящие вглубь, точно вдаль глаза. Его легко было не заметить, так мало было выдающегося в его внешнем облике. В обычной жизни он отличался большой вежливостью, почти женской мягкостью, постоянной ровностью характера. Ему нравились изысканные манеры в обращении, и при первой встрече он поражал своей несколько деланной церемонностью.
Л. Шестов:
Ницше был и остался до конца своей жизни нравственным человеком в полном смысле - самом обыденном - этого слова. Он не мог и ребенка обидеть, был целомудренным, как молодая девушка, и все, что почитается людьми долгом, обязанностью, исполнял разве что с преувеличенным, слишком добросовестным усердием.
В. Б. Кучевский:
По своему душевному строю и складу ума Ницше был утонченным аристократом и рафинированным интеллигентом-гуманитарием, влюбленным в античность, знатоком живописи, поэзии и музыки. В его внешнем облике ничего выдающегося не было, поэтому легко можно было его не заметить. Говорил он тихо, имел спокойные и обращенные внутрь глаза, отличался большой вежливостью, почти женской мягкостью, ровностью характера. Ему нравились изысканные манеры обращения. Он был сердечным, наивным и способным смеяться, как дитя, человеком. В общении с людьми проявлял себя любезным, образованным, утонченным и сдержанным собеседником. О нем говорили, что это любопытный человек, очень странный и эксцентричный, может быть, великого ума.
С. Цвейг:
Порог переступает неуверенная, сутулая фигура с поникшими плечами, будто полуслепой обитатель пещеры ощупью выбирается на свет. Темный, старательно почищенный костюм; лицо, затененное зарослью волнистых, темных волос; темные глаза, скрытые за толстыми, почти шарообразными стеклами очков. Тихо, даже робко, входит он в дверь; какое-то странное безмолвие окружает его. Всё изобличает в нем человека, привыкшего жить в тени, далекого от светской общительности, испытывающего почти неврастенический страх перед каждым громко сказанным словом, перед всяким шумом. Вежливо, с изысканно чопорной учтивостью, он отвешивает поклон собравшимся; вежливо, с безразличной любезностью, отвечают они на поклон немецкого профессора. Осторожно, присаживается он к столу - близорукость запрещает ему резкие движения, - осторожно пробует каждое блюдо - как бы оно не повредило больному желудку: не слишком ли крепок чай, не слишком ли пикантен соус, - всякое уклонение от диеты раздражает его чувствительный кишечник, всякое излишество в еде чрезмерно возбуждает его трепещущие нервы. Ни рюмка вина, ни бокал пива, ни чашка кофе не оживляют его меню; ни сигары, ни папиросы не выкурит он после обеда; ничего возбуждающего, освежающего, развлекающего: только скудный, наспех проглоченный обед, да несколько незначительных, светски учтивых фраз, тихим голосом сказанных в беглом разговоре случайному соседу (так говорит человек, давно отвыкший говорить и боящийся нескромных вопросов).
Любопытен портрет Ницше кисти Лу Саломе периода их знакомства:
Для поверхностного наблюдателя его внешность не представляла ничего особенного, можно было легко пройти мимо этого человека среднего роста, в крайне простой, но и крайне аккуратной одежде, со спокойными чертами лица и гладко зачесанными назад каштановыми волосами. Тонкие, выразительные линии рта были почти совсем прикрыты большими, начесанными вперед усами. У него был тихий смех, тихая манера говорить, осторожная задумчивая походка и слегка сутулые плечи. Трудно было представить себе эту фигуру среди толпы - она носила отпечаток обособленности, уединенности. В высшей степени прекрасны и изящны были руки Ницше, невольно привлекавшие к себе взгляд; он сам полагал, что они выдают его умственную силу. Это видно из одного замечания: «Бывают люди, которые неизбежно обнаруживают свой ум, как бы они ни увертывались и ни прятались, закрывая предательские глаза руками (как будто рука не может быть предательской!)».
Истинно предательскими в этом смысле были и глаза его. Хотя он был наполовину слеп, глаза его не щурились, не вглядывались со свойственной близоруким людям пристальностью и невольной назойливостью; они скорее глядели стражами и хранителями собственных сокровищ, немых тайн, которых не должен касаться ничей непосвященный взор. Слабость зрения придавала его чертам особого рода обаяние: вместо того, чтобы отражать меняющиеся внешние впечатления, они выдавали только то, что прошло раньше через его внутренний мир. Глаза его глядели внутрь и в то же время - минуя близлежащие предметы - куда-то вдаль, или, вернее, они глядели внутрь, как бы в бесконечную даль. Ведь в сущности вся его философия была исканием в человеческой душе неведомых миров, «неисчерпанных возможностей», которые он неустанно создавал и пересоздавал. Когда он иногда, под влиянием какой-нибудь волнующей его беседы с глазу на глаз, становился совершенно самим собою, тогда в глазах его появлялся и вновь пропадал поражающий блеск; но когда он был в угнетенном настроении, тогда одиночество мрачно, почти грозно выглядывало из глаз его, как из таинственных глубин - из тех глубин, в которых он оставался постоянно один, которых он не мог ни с кем делить и пред которыми ему самому становилось иногда жутко, пока в них же, наконец, не погиб его дух.
Даже в безумии, констатирует Лу, Ницше сохранил на лице мету вдохновенной глубины, присущую гениальным натурам:
Интересны портреты, которые представляют Ницше во время последних десяти лет болезни. Это было время, когда его наружность приобрела наибольшую выразительность, когда полное выражение его существа наиболее было проникнуто глубокой внутренней жизнью и в лице его светилось то, чего он не высказывал, а таил в себе.
Человек малопрактичный, совершенно не умеющий устраивать свои личные дела, мягкий, нерешительный (каждое решение доставалось ему ценой циклопической внутренней борьбы и огромных страданий), типичный изгой и аутсайдер, представитель племени людей «не от мира сего», Ницше всю жизнь занимался тем, что выдавливал из себя раба. Он потому любил Достоевского, что - сознательно или бессознательно - чувствовал, что является его героем, Раскольниковым ли, Иваном ли, Алешей... Он не был тем «динамитом», которым хотел стать, больше - ветошкой, ибо все сверхчеловеки - люди действий, а не слов, люди, не знающие рефлексии по поводу своих действий. Сверхчеловеки действуют, а не сочиняют правила своих действий, правила, как устраивать жизнь.
Ты не должен ни любить, ни ненавидеть народа,
Ты не должен заниматься политикой.
Ты не должен быть ни богатым, ни нищим.
Ты должен избегать пути знаменитых и сильных.
Ты должен взять себе жену из другого народа.
Своим друзьям ты должен поручить воспитание твоих детей.
Ты не должен исполнять никаких церковных обрядов.
Возможно, апология жизненности и могущества была бессознательным «преодолением» собственного «юродства», бегством от себя - «святого»... И в этом отношении Ницше снова-таки живой герой Достоевского, преодоление в себе Алеши Карамазова - Иваном.
Все близко знавшие Ницше отмечали его деликатность, участливость, сильно развитое чувство сострадания - черты, прямо противоположные тем, которые он живописал в последние годы жизни.
Барон фон Зейдлиц:
Я не знал ни одного - ни одного - более аристократичного человека, чем он. Он мог быть беспощадным только с идеями, не с людьми - носителями идей.
Лу Саломе, подчеркивая изящные, доходившие до церемонности, манеры своего воздыхателя, объясняла их внешней маскировкой: мягкостью, вежливостью, обходительностью Ницше скрывал свой глубоко спрятанный духовный мир:
Я помню, что при первой моей встрече с Ницше - это было однажды весной, в церкви св. Петра в Риме - его намеренная церемонность меня удивила и ввела в заблуждение. Но недолго обманывал относительно самого себя этот одинокий человек, так же неумело носивший маску, как человек, пришедший с горных высот и из пустынь, носит обычное платье горожан. Очень скоро поднимался вопрос, который он сам формулировал в следующих словах: «Относительно всего, что человек позволяет видеть в себе, можно спросить: что оно должно собою скрывать? От чего должно оно отвлекать взор? Какой предрассудок должно оно задеть? И затем еще: как далеко идет тонкость этого притворства? В чем человек выдает себя при этом?».
Эта черта рисует только оборотную сторону того чувства одиночества, которое объясняет собой всю душевную жизнь Ницше - все возрастающее уединение в самом себе. По мере того, как это чувство растет в нем, все, обращенное на внешний мир, становится притворством - обманчивым покрывалом, которое ткет вокруг себя глубокая страсть одиночества, чтобы сделаться временно внешней оболочкой, видимой для человеческих глаз. «Люди, глубоко думающие, кажутся себе актерами в сношениях с другими людьми, ибо для того, чтобы быть понятыми, они должны надеть на себя внешний покров».
Можно даже сказать, что самые идеи Ницше, поскольку они выражены теоретически, составляют только этот внешний покров, за которым в бездонной глубине и в безмолвии покоится внутренняя жизнь, из которой они вышли. Они подобны «коже, которая кое-что выдает, но гораздо более таит», «потому что, - говорит он, - нужно или скрывать свои мысли, или скрывать себя за своими мыслями».
В отличие от большинства друзей, неспособных оценить его дар и его новаторство, холодно встречавших его гениальные книги, Ницше горячо откликался на их опусы, известные в наше время только потому, что авторы волею судеб попали в его «круг». Когда в 1881-м Рэ сообщил о своем намерении завершить собственную книгу, он тотчас получил самый восторженный ответ: «В этом году должна появиться на свет книга, в стройной системе и золотой последовательности которой я буду иметь право забыть мою бедную раздробленную философию! Какой дивный год 1881-й!»
Ницше неизменно радовался успехам друзей и отдавал последние силы, дабы поддержать их в трудную минуту жизни. Вспомним, например, то нежное участие, которое он проявил к Петеру Гасту, написавшему отвергнутую всеми театрами оперу В е н е ц и а н с к и й л е в. Предлагая другу материальную помощь («Пусть наши капиталы будут общие; разделим то немногое, что у меня есть...»), он, испытавший все мыслимые степени унижения, писал ему: «Мужайтесь, не позволяйте себя развенчивать; я, по крайней мере, будьте в этом уверены, верю в Вас; мне необходима Ваша музыка, без нее я не мог бы жить...». (Получал ли он сам когда-либо подобные письма?).
Хотя ему пришлось претерпеть в жизни много зла, он не знал злопамятства: «Я ненавижу людей, не умеющих прощать». Это не громкая фраза - это святая правда, и вся жизнь Ницше - тому свидетельство.
Я приветлив к человеку,
и к случаю приветлив,
я приветлив к любому,
даже к травам:
веснушки на зимних щеках...
влажный от нежности,
ветер оттепели для заснеженных душ;
......................
высокомерен, я презираю
мелкие выгоды:
там, где я вижу длинные пальцы торговцев,
так и не терпится мне
протянуть те, что короче,-
этого требует от меня мой прихотливый вкус.
Одному гимназическому товарищу, впрочем довольно скептическому во всем остальном, приходит в голову сравнение с «двенадцатилетним Иисусом в храме»; «маленький пастор» - это прозвище пристало к нему еще с самых первых классов школы («он мог декламировать библейские речения и церковные песнопения с таким выражением, что это почти исторгало слезы у слушателей»); удивительный факт: какой индикатор святости мог бы сравниться по точности с детским? - но вот же и сама точность: в присутствии этого подростка нельзя было осмелиться на грубое или сальное слово; сохранился рассказ: какой-то однокашник хлопает ладонью по рту и восклицает: «Нет, этого нельзя говорить при Ницше!» - «Что же он тебе сделает?» - «Ах, он смотрит на тебя так, что слово застревает во рту».
Вот ведь как: «убийцу Бога» в жизни многие воспринимали il Santo, святым - «таким он казался даже случайным путевым знакомым и простым людям». О том же свидетельствуют почти все его знакомые и друзья: «атмосфера «святости» и «праведности» овевала будущего «безбожника» с детских лет».
Взять хотя бы психологический портрет 32-летнего Ницше периода жизни на вилле Мальвиды фон Мейзенбуг кисти самой хозяйки:
Сколько мягкости, сколько добродушия было тогда в характере Ницше! Как хорошо уравновешивалась разрушительная тенденция его ума добротою и мягкостью его натуры! Никто лучше не умел смеяться и веселиться от чистого сердца и прерывать милыми шутками серьезность нашего маленького кружка.
Здесь проницательно подмечена дихотомия ум-натура, антитетичность «дьявольского» ума и характера «святого». Человек самой нежной души, монашеских добродетелей, высочайшей нравственности, объявивший войну собственным природным качествам, - вот что такое «феномен Ницше». Действительно, Ницше боролся не только с преодолением наследия Шопенгауэра и Вагнера в своем творчестве, но с теми своими качествами - интеллигентностью, мягкостью, кротостью, которые никак не отвечали воспеваемой «воле к могуществу». Если хотите, жало его книг, в первую очередь, направлено на их автора. Главный казус его книг - «казус Ницше».
Силясь скрыть избранность Божью,
Корчишь чертову ты рожу
И кощунствуешь с лихвой.
Дьявол вылитый! И все же
Из-под век глядит святой!
Важно понять, что Ницше-человек и Ницше-писатель - два несовместимых лика Одинокого скитальца, богоизбранного и богоотверженного в одном лице, святого и провокатора... Книги Ницше множили ему врагов, жизнь Ницше свидетельствовала о высочайших человеческих качествах:
Я никогда не знал искусства восстанавливать против себя - этим я также обязан моему несравненному отцу, - и даже когда это представлялось мне очень ценным. И как бы это ни казалось не по-христиански, я даже не восстановлен против самого себя. Можно вертеть мою жизнь во все стороны, и редко, в сущности один только раз, будут открыты следы недоброжелательства ко мне, - но, может быть, найдется слишком много следов добрых отношений ко мне... Мои опыты даже с теми, над которыми все производят неудачные опыты, говорят скорее в их пользу; я приручаю всякого медведя; я делаю канатных плясунов все еще благонравными. В течение семи лет, когда я преподавал греческий язык в старшем классе базельского Pаdagogium’a, у меня ни разу не было повода прибегнуть к наказанию; самые ленивые были у меня прилежны. Я всегда выше случая; мне не надо быть подготовленным, чтобы владеть собой. Из какого угодно инструмента, будь он даже так расстроен, как только может быть расстроен инструмент «человек», если я не болен, мне удается извлечь нечто, что можно слушать. И как часто слышал я от самих «инструментов», что еще никогда они так не звучали...
В Е с с е H о m o Ницше признается, что его религия, лучше сказать - гигиена, буддистская: освобождение души от зла, мести, неприязни. «Не враждою оканчивается вражда, дружбою оканчивается вражда» - это стоит в начале учения Будды и в начале житейской позиции Ницше (вопреки разрывам многих его дружеских связей - большей частью не по его вине).
Конечно же, Ницше не был прообразом сверхчеловека и, как мне представляется, не претендовал на это. Сверхчеловеческими были только его страдания. Конечно, он знал себе цену, но высокая самооценка не воспрепятствовала ни рефлексии, ни унынию непризнанного гения. «Я только пустослов: «а чту в словах! чту во мне!» Откровенно говоря, эта горечь отвергнутого меня удивляет: разве может притязать на признание человек, осознавший, что далеко упредил свое время? Никому ничто человеческое не чуждо, но гениальность представляется мне самодостаточной: вера гения в себя, как мне кажется, выше непризнания или остракизма. Не случайно признание при жизни коробило Элиота и других эзотерических поэтов, видевших в славе лишь недостаточно высокий уровень, обеспечивающий прижизненное признание. Человек, написавший о себе, что он «достаточно силен для того, чтобы расколоть историю человечества на два куска» (письмо к А. Стриндбергу), не должен страдать от того, что «песок человеческий» не оставил на себе его отпечатков.
Ницше никогда не курил, был умерен в еде, не любил спиртного. Он вообще не любил «быт», мелочи обыденной жизни вызывали в нем отвращение. «Все непередаваемое музыкой, признавался он, отталкивает, делается для меня отвратительным». «Я боюсь реальной действительности. По правде говоря, я не вижу больше ничего реального, а сплошную фантасмагорию».
О личности Фридриха Ницше можно судить по жизненным правилам, которые он выработал для себя в период после 1880 года:
Будь независим, никого не оскорбляй; пусть гордость твоя будет мягкой и сокровенной и не стеснит других людей, пусть не будет в тебе зависти к их почестям и благополучию; сумей также воздержаться от насмешки. Сон твой должен быть легок, манеры свободные и тихие; не употребляй вина, избегай знакомств со знаменитостями и особами королевской крови, не сближайся с женщинами; не читай журналов; не гонись за почестями; не посещай общества, за исключением людей высокой умственной культуры; если таких людей вокруг тебя не окажется, то обратись к простому народу (без него так же нельзя обойтись, как без того, чтобы не засмотреться на мощную и здоровую природу); готовь себе самые легкие блюда и приготовляй их себе сам. Лучше, если пища совсем не будет требовать приготовления...
Впрочем, в обыденной жизни Ницше мало чем отличался от обыкновенных людей. В пансионах, в местах, куда его забрасывали метания по Европе, он встречал множество людей, далеких от его интеллектуальных исканий, относившихся к одинокому, больному, немного странному человеку с манерами аристократа с теплотой и симпатией. Он умел быть любезным, утонченным, предупредительным собеседником и встречал такое же отношение к себе. Однажды одна пансионерка, девушка хрупкого здоровья, имя которой нам не известно, попросила Ницше дать ей его книги. Зная, что она горячо верующая католичка, Ницше ответил отказом: «Я не хочу, чтобы Вы читали мои книги. Если то, что я пишу понимать буквально, то такое бедное, страдающее существо, как Вы, не имело бы права на жизнь». Сохранились свидетельства о том, что случайные знакомые Ницше с удовольствием общались с профессором и высоко ценили беседы с ним.
Они уважали, любили своего соседа и ценили его странные талантливые беседы. Они хотели сидеть с ним за соседним стулом во время table d’hоte’a: этого было мало для того, что обычно именуется славой, но это много значило для Ницше. Благодаря этим знакомым он находил в Энгадине ту атмосферу доверия, в которой так нуждалась его душа и которой ему не хватало в Германии.