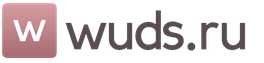– Есть что-то выше семьи: общественная жизнь.
– Общественная жизнь, мой милый, это зал, а семья – это те камни, из которых сложен этот зал.
Карташев прислушивался к таким разговорам матери, как удаляющийся путник слушает звон родного колокола. Он звенит и будит душу, но путник идет своей дорогой.
Карташеву и самому теперь приятно было, что не у него собирается компания. Он любил мать, сестер, признавал все их достоинства, но душа его рвалась туда, где весело и беззаботно авторитетная для самих себя компания жила жизнью, какой хотела жить. Утром гимназия, после обеда уроки, а вечером собрания. Не для пьянства, не для кутежа, а для чтения. Аглаида Васильевна скрепя сердце отпускала сына.
Карташев уже раз навсегда завоевал себе это право.
– Я не могу жить, чувствуя себя ниже других, – сказал он матери с силой и выразительностью, – а если меня заставят жить иной жизнью, то я сделаюсь негодяем: я разобью свою жизнь…
– Пожалуйста, не запугивай, потому что я не из пугливых.
Но тем не менее с тех пор Карташев, уходя из дому, только заявлял:
– Мама, я иду к Корневу.
И Аглаида Васильевна обыкновенно с неприятным ощущением только кивала головой.
ГИМНАЗИЯ
В гимназии было веселее, чем дома, хотя гнет и требования гимназии были тяжелее, чем требования семьи. Но там жизнь шла на людях. В семье каждого интерес был только его, а там гимназия связывала интересы всех. Дома борьба шла глаз на глаз, и интереса в ней было мало: все новаторы, каждый порознь в своей семье, чувствовали свое бессилие, в гимназии чувствовалось такое же бессилие, но тут работа шла сообща, был полный простор критики, и никому не дороги были те, кого разбирали. Тут можно было без оглядки, чтоб не задеть больного чувства того или другого из компании, примеривать тот теоретический масштаб, который вырабатывала постепенно себе компания.
С точки зрения этого масштаба и относилась компания ко всем явлениям гимназической жизни и ко всем тем, кто представлял из себя начальство гимназии.
С этой точки зрения одни заслуживали внимания, другие – уважения, третьи – ненависти и четвертые, наконец, не заслуживали ничего, кроме пренебрежения. К последним относились все те, у которых в голове, кроме механических своих обязанностей, ничего другого не было. Их называли «амфибиями». Добрая амфибия – надзиратель Иван Иванович, мстительная амфибия – учитель математики; не добрые и не злые: инспектор, учителя иностранных языков, задумчивые и мечтательные, в цветных галстуках, гладко причесанные. Они, казалось, сами сознавали свое убожество, и только на экзаменах их фигуры обрисовывались на мгновение рельефнее, чтоб затем снова исчезнуть с горизонта до следующего экзамена. Все того же директора любили и уважали, хотя и считали его горячкой, способным сгоряча наделать много бестактностей. Но как-то не обижались на него в такие минуты и охотно забывали его резкости. Центром внимания компании были четверо: учитель латинского языка в младших классах Хлопов, учитель латинского языка в их классе Дмитрий Петрович Воздвиженский, учитель словесности Митрофан Семенович Козарский и учитель истории Леонид Николаевич Шатров.
Молодого учителя латинского языка Хлопова, преподававшего в низших классах, не любили все в гимназии. Не было большего удовольствия у старшеклассников, как толкнуть нечаянно этого учителя и бросить ему презрительно «виноват» или подарить его соответствующим взглядом. А когда он пробегал торопливо по коридору, красный, в синих очках, с устремленным вперед взглядом, то все, стоя у дверей своего класса, старались смотреть на него как можно нахальнее, и даже самый тихий, первый ученик Яковлев, раздувая ноздри, говорил, не стесняясь, услышат его или нет:
– Это он красный оттого, что насосался кровью своих жертв.
А маленькие жертвы, плача и обгоняя друг друга, после каждого урока высыпали за ним в коридор и напрасно молили о пощаде.
Насытившийся единицами и двойками учитель только водил своими опьяненными глазами и спешил, не говоря ни одного слова, скрыться в учительскую.
Нельзя сказать, чтоб это был злой человек, но вниманием его пользовались исключительно оторопелые, и по мере того как эти жертвы под его опекой пугались все больше и больше, Хлопов делался все нежнее к ним. И те, в свою очередь, благоговели перед ним и в порыве экстаза целовали ему руки. Хлопов и между учителями не пользовался симпатией, и кто из учеников заглядывал во время рекреации в щелку учительской, всегда видел его одиноко бегающим из угла в угол, с красным возбужденным лицом, с видом обиженного человека.
Он говорил быстро и слегка заикаясь. Несмотря на молодость, у него уже было порядочно отвислое брюшко.
Маленькие жертвы, умевшие плакать перед ним и целовать его руки, за глаза, пораженные, вероятно, несоответственностью его брюшка, называли его «беременной сукой».
В общем, это был тиран – убежденный и самолюбивый, про которого рассказывали, что на юбилее Каткова, когда того качали, он так подвернулся, что Катков очутился сидящим на его спине. Так и звали его поэтому в старших классах: катковский осел.
Учитель словесности, Митрофан Семенович Козарский, был маленький мрачный человек со всеми признаками злой чахотки. На голове у него была целая куча нечесаных, спутанных курчавых волос, в которые он то и дело желчно запускал свою маленькую, с пальцами врозь, руку. Он всегда носил темные, дымчатые очки, и только изредка, когда снимал их, чтобы протереть, ученики видели маленькие серые, злые, как у цепной собаки, глаза. Он и рычал как-то по-собачьи. Трудно было заставить его улыбнуться, но когда он улыбался, еще труднее было признать это за улыбку, точно кто насильно растягивал ему рот, а он всеми силами этому противился. Ученики хотя и боялись его, и зубрили исправно разные древние славянские красоты, но и пытались заигрывать с ним.
Такое заигрыванье редко сходило даром.
Однажды, как только кончилась перекличка, Карташев, считавший своею обязанностью во всем сомневаться, что, впрочем, выходило у него немного насильственно, встал и решительным, взволнованным голосом обратился к учителю:
– Митрофан Семенович! Для меня непонятно одно обстоятельство в жизни Антония и Феодосия.
– Какое-с? – сухо насторожился учитель.
– Я боюсь спросить вас, так оно несообразно.
– Говорите-с!
Козарский нервно подпер рукою подбородок и впился в Карташева.
Карташев побледнел и, не сводя с него глаз, высказал, хотя и путано, но в один залп, свои подозрения в том, что в назначении боярина Федора было пристрастие.
По мере того как он говорил, брови учителя подымались все выше и выше. Карташеву казалось, что на него смотрят не очки, а темные впадины чьих-то глаз, страшных и таинственных. Ему вдруг сделалось жутко от своих собственных слов. Он уж рад был бы и не говорить их, но все было сказано, и Карташев, замолчав, подавленный, растерянный, глупым, испуганным взглядом продолжал смотреть в страшные очки. А учитель все молчал, все смотрел, и только ядовитая гримаса сильнее кривила его губы.
Густой румянец залил щеки Карташева, и мучительный стыд охватил его. Наконец Митрофан Семенович заговорил тихо, размеренно, и слова его закапали, как кипяток, на голову Карташева:
– До такой гадости… до такой пошлости может довести человека желанье вечно оригинальничать…
Класс завертелся в глазах Карташева. Половина слов пролетела мимо, но довольно было и тех, которые попали в его уши. Ноги подкосились, и он сел, наполовину не сознавая себя. Учитель нервно, желчно закашлялся и схватился своей маленькой, растрепанной рукой за впалую грудь. Когда припадок прошел, он долго молча ходил по классу.
– В свое время в университете с вами подробно коснутся того печального явления в нашей литературе, которое вызвало и вызывает такое шутовское отношение к жизни.
Намек был слишком ясен и слишком обидным показался для Корнева.
заглянул в Добролюбова, просмаковал введение Бокля, читал Щапова и запомнил,
что первичное племя, населявшее Россию, было курганное и череп имело
субликоцефалический.
Отношения Корнева и Карташева изменились: хотя споры не прекращались и
носили на себе все тот же страстный, жгучий характер, но в отношения
вкралось равенство. Карташева стала приглашать партия Корнева на свои
вечера: Карташев потянул за собой и свою компанию. Даже Семенов примирился,
бывал на чтениях и убедился, что там не происходит ничего, за что могло бы
последовать исключение кого бы то ни было из гимназии.
Берендя тоже с жаром и страстностью набросился на чтение и постепенно
приобрел некоторое уважение в кружке как человек начитанный, с громадною
памятью, как ходячая энциклопедия всевозможных знаний.
Иногда, если у компании хватало терпения, его дослушивали до конца, и
тогда из тумана высокопарных слов выплывала какая-нибудь оригинальная,
обобщенная и обоснованная мысль.
Корнев тогда задумывался, грыз ногти и пытливо заглядывал ему в глаза,
пока высокий Берендя, в позе танцора, подымаясь еще выше на носки и
осторожно прижимая руки к груди, спешно выкладывал перед всеми свои
соображения.
Только в глазах Вервицкого Берендя сохранил свой прежний вид дурня и
растеряхи в практической жизни. Впрочем, таким он и был в общежитейских
отношениях: был на счету у начальства неспособным, имел плохие отметки, по
математике из двойки не вылезал и только по истории имел круглую пятерку.
Историю, и особенно русскую, он любил до болезни. Обладая громадною памятью,
он помнил все года и перечитал массу исторических русских книг.
Барометр товарищеских отношений - Долба снисходительно трепал Берендю
по плечу и добродушно говорил:
- Бокль не Бокль, а дай же, боже, щоб наше теля да вивка съило.
Аглаида Васильевна добилась наконец своего. Однажды Карташев после
долгих колебаний (он все боялся, что не захотят к нему прийти) пригласил к
себе Корнева, Рыльского, Долбу и прежних своих приятелей - Семенова,
Вервицкого и Берендю.
Прежние приятели уже собрались и пили вечерний чай за большим семейным
столом, когда раздался звонок и в переднюю ввалились вновь прибывшие. Они
раздевались, переглядывались между собою и громко перебрасывались словами.
Рыльский, прежде чем войти, вынул чистенький гребешочек, причесал им и
без того свои гладкие, мягкие, золотистые волосы, оправил pince-nez, весело
покосился на замечание Корнева "хорош", проговорив "рыло", и первый вошел в
гостиную. Увидев общество в другой комнате, он уверенно направился туда.
За ним вошел Корнев, невозможно перекосив лицо и с каким-то особенно
глубокомысленным, сосредоточенным видом.
Сзади всех, покачиваясь, с оттенком какого-то пренебрежения и в то же
время конфузливости, шел Долба, потирая руки и ежась, точно ему было
холодно.
Карташев вышел в гостиную навстречу гостям и сконфуженно пожал им руки.
Несколько мгновений он стоял перед своими гостями, а гости стояли перед ним,
не зная, что с собою делать.
- Тема, веди своих гостей в столовую! - выручила мать.
Раскланиваясь перед Аглаидой Васильевной, Рыльский шаркнул, наклонив
голову, и, вежливо еще раз поклонившись, пожал протянутую ему руку. Корнев
слил все в одном поклоне, сжал крепко руку, низко наклонил голову и еще
больше перекосил лицо. Долба размашисто наклонился и после пожатия, поднимая
голову, энергично тряхнул волосами, и они, разлетевшись веером, опять
улеглись на свои места.
- Очень приятно, очень рада, господа, познакомиться, - говорила Аглаида
Васильевна, приветливо и внимательно окидывая взглядом гостей.
Карташев в это время весь превратился в зрение и, по своей
впечатлительности, не замечал, как он и сам кланялся, когда представлялись
его товарищи.
- Ты, чем кланяться, представь-ка лучше сестре, - посоветовал
добродушно Рыльский, смотревший в это время на сестру Карташева в
нерешительном ожидании, когда его представят.
Зинаида Николаевна весело рассмеялась, Рыльский тоже - и все сразу
получило какой-то непринужденный, свободный характер.
Рыльский сел возле Зинаиды Николаевны, смеялся, острил, ему помогал
Семенов. Корнев завел серьезный разговор с Аглаидой Васильевной. Долба
разговаривал с Карташевым, Вервицкий и Берендя молча слушали.
Зинаида Николаевна, уже семнадцатилетняя барышня, в последнем классе
гимназии, ожидавшая гостей брата с некоторым пренебрежением, раскраснелась,
разговорилась, и мать с удовольствием подметила в своей дочери способность и
занимать гостей, и уметь нравиться без всяких шокирующих манер. Все в ней
было просто до скромности, но как-то естественно изящно: поворот головы,
смущенье, манера опускать глаза - все удовлетворяло требовательную Аглаиду
Васильевну. Зато Тема оставлял желать многого: он конфузился, разбрасывался,
не зная, что делать с своими руками, и невыносимо горбился.
Корнев еще хуже горбился. Зато Рыльский держал себя безукоризненно. Его
поклоны и манеры обворожили всех. Долба производил какое-то болезненное
впечатление желанием чем-нибудь, как-нибудь выдвинуться. У Семенова была
видна домашняя дрессировка. Вервицкий и Берендя были для Аглаиды Васильевны
старые знакомые медвежата.
Общество перешло в гостиную. Аглаида Васильевна, пропустив всех,
мысленно определяла место своего сына в обществе его товарищей.
Зинаида Николаевна села за рояль, Семенов принялся открывать свою
скрипку. Рыльский стал возле рояля, Корнев и Долба с кислой физиономией
ходили вдоль окон и посматривали по сторонам. Корнев жалел, что пришел и
теряет вечер в неинтересной для него обстановке.
Аглаида Васильевна ушла и возвратилась, держа за руку Наташу.
Стройная пятнадцатилетняя Наташа, вся разгоревшись, смотрела своими
глубокими большими глазами так, как смотрят в пятнадцать лет на такое
крупное событие, как первое знакомство с таким большим обществом. Она как-то
и доверчиво, и неуверенно, и робко протягивала свою изящную ручку гостям. Ее
густые волосы были заплетены в одну толстую косу сзади.
Появление ее было встречено общим удовольствием: она сразу произвела
впечатление. Корнев впился в нее глазами и энергично принялся за свои ногти.
Лучистые глаза Беренди стали еще лучистее.
Зина мельком окинула сестру, гостей, и удовольствие пробежало по ее
лицу. Ей был приятен и эффектный выход сестры, и, может быть, и то, что
Семенов и Рыльский остались при ней. Это она почувствовала сразу по свойству
женской натуры. Почувствовала это и мать и, оставив дочь возле Корнева,
принялась за Долбу.
Долба горячо и уверенно говорил с ней о притеснениях урядников в
деревне. Аглаида Васильевна никогда не предполагала, чтобы урядники были
таким злом. У нее у самой именье... Он сам откуда? Недалеко от ее имения?
Вот как! Очень приятно. Летом, она надеется...
- Очень приятно, - говорил Долба, смеялся и шаркал ногами.
Только он ведь медведь, простой деревенский медведь, он боится быть
скучным, неинтересным гостем.
Аглаида Васильевна на мгновение опустила глаза, легкая усмешка
пробежала по ее лицу, она посмотрела на сына и заговорила о том, как быстро
идет время и как странно ей видеть таким большим своего сына. Он совсем
почти большой, шутка сказать, через каких-нибудь два года уже в
университете. Долба слушал, смотрел на Аглаиду Васильевну и весело думал:
"Ловкая баба".
Семенов устроился, наладился, вытянул руку, и по зале понеслись твердые
звуки скрипки вперемежку с мягкой мелодичной игрой Зинаиды Николаевны.
- Хорошо Зинаида Николаевна играет, - похвалил Рыльский.
Зинаида Николаевна вспыхнула, а Семенов сосредоточенно кивнул головой,
продолжая выводить ровные твердые звуки.
- А вы играете? - спросил Корнев, заглядывая в глаза Наташи.
- Плохо, - робко, обжигая взглядом, ответила Наташа так, как будто
просила извинения у Корнева. Корнев опять принялся за ногти и чувствовал
себя особенно хорошо.
Вечер прошел незаметно и оживленно. Аглаида Васильевна с большим тактом
сумела позаботиться о том, чтобы никому не было скучно: было и свободно, но
в то же время чувствовалась какая-то незаметная, хотя и приятная рука.
С приездом последнего гостя, Дарсье, сразу очаровавшего всех
непринужденностью своих изящных манер, совершенно неожиданно вечер
закончился танцами: танцевали Дарсье, Рыльский и Семенов. Даже танцевали
мазурку, причем Рыльский прошелся так, что вызвал общий восторг.
Наташа сперва не хотела танцевать.
- Отчего же? - иронически убеждал ее Корнев. - Вам это необходимо...
Вот года через три начнете выезжать, там... ну, как все это водится.
- Я не люблю танцев, - отвечала Наташа, - и никогда выезжать не буду.
- Вот как... отчего ж это?
- Так... не люблю...
Но в конце концов и Наташа пошла танцевать.
Ее тоненькая, стройная фигурка двигалась неуверенно по зале, торопливо
забегая вперед, а Корнев смотрел на нее и сосредоточеннее обыкновенного грыз
свои ногти.
- Н-да... - протянул он рассеянно, когда Наташа опять села возле него.
- Что да? - спросила она.
- Ничего, - нехотя ответил Корнев. Помолчав, он сказал: - Я все вот
хотел понять, в чем тут удовольствие в танцах... Я, собственно, не против
движений еще более диких, но... это удобно на воздухе где-нибудь, летом...
знаете, находит вот этакое настроение шестимесячного теленка... видали,
может, как, поднявши хвост... Кажется, я употребляю выражения, не принятые в
порядочном обществе...
- Что тут непринятого?
- Тем лучше в таком случае... Так вот и я иногда бываю в таком
настроении...
- Бывает, бывает, - вмешался Долба, - и тогда мы его привязываем на
веревку и бьем.
Долба показал, как они бьют, и залился своим мелким смехом. Но,
заметив, что Корневу что-то не понравилось, он смутился и деловым и в то же
время фамильярным голосом спросил:
- Послушай, брат, а не пора ли нам и убираться?
- Рано еще, - вскинула глазами Наташа на Корнева.
- Да что тебе, - ответил Корнев, - сидишь и сиди.
- Ну что ж: кутить так кутить...
Корнев не жалел больше о потерянном вечере.
Уже когда собирались расходиться, Берендя вдруг выразил желание сыграть
на скрипке, и сыграл так, что Корнев шепнул Долбе:
- Ну, если б теперь луна да лето: тут бы все и пропали...
На обратном пути все были под обаянием проведенного вечера.
- Да ведь маменька-то, черт побери, - кричал Долба, - старшая сестра:
глаза-то, глаза. Ах, черт... глаза у них у всех...
- Ах, умная баба, - говорил Корнев. - Ну, баба...
- Да-да... - соглашался Рыльский. - Наш-то род каблучком.
- Та-а-кая тюря!
И Долба, приседая, залился своим мелким смехом. Ему вторил веселый
молодой хохот остальной компании и далеко разносился по сонным улицам
города.
У Карташевых долго еще сидели в этот вечер. В гостиной продолжали
гореть лампы под абажурами, мягко оттеняя обстановку. Зина, Наташа и Тема
сидели, полные ощущения вечера и гостей, которые еще чувствовались в
комнатах.
Зина хвалила Рыльского, его манеру, его находчивость, остроумие; Наташе
нравился Корнев и даже его манера грызть ногти. Теме нравилось все, и он
жадно ловил всякий отзыв о своих товарищах.
- У Дарсье и Рыльского больше других видно влияние порядочной семьи, -
говорила Аглаида Васильевна.
Карташев слушал, и в первый раз с этой стороны освещались пред ним его
товарищи: до сих пор мерило было другое, и между ними всеми всегда
выдвигался и царил Корнев.
- У Семенова натянутость некоторая, - продолжала Аглаида Васильевна.
- Мама, ты заметила, как Семенов ходит? - быстро спросила Наташа, и,
немного расставив руки, вывернув носки внутрь, она пошла, вся поглощенная
старанием добросовестно представить себе в этот момент Семенова.
- А твой Корнев вот так грызет ногти! - И Зина карикатурно сгорбилась в
три погибели, изображая Корнева.
Наташа внимательно, с какой-то тревогой следила за Зиной и вдруг,
весело рассмеявшись, откидывая свою косу, сказала:
- Нет, не похож...
Она решительно остановилась.
- Вот...
Она немного согнулась, уставила глаза в одну точку и раздумчиво
поднесла свой маленький ноготок к губам: Корнев, как живой, появился между
разговаривавшими.
Зина вскрикнула: "Ах! как похож!" Наташа весело рассмеялась и сразу
сбросила с себя маску.
- Надо, Тема, стараться держать себя лучше, - сказала Аглаида
Васильевна, - ты страшно горбишься... Мог бы быть эффектнее всех своих
товарищей.
- Ведь Тема, если б хорошо держался, был бы очень представительный... -
подтвердила Зина. - Что ж, правду сказать, он очень красив: глаза, нос,
волосы...
Тема конфузливо горбился, слушал с удовольствием и в то же время
неприятно морщился.
- Ну, что ты, Тема, точно маленький, право... - заметила Зина. - Но все
это у тебя, как начнешь горбиться, точно пропадает куда-то... Глаза делаются
просительными, точно вот-вот копеечку попросишь...
Зина рассмеялась. Тема встал и заходил по комнате. Он мельком взглянул
на себя в зеркало, отвернулся, пошел в другую сторону, незаметно выпрямился
и, направившись снова к зеркалу, мельком заглянул в него.
- А как ловко танцевать с Рыльским! - воскликнула Зина. - Не чувствуешь
совсем...
- А с Семеновым я все сбивалась, - сказала Наташа.
- Семенову непременно надо от двери начинать. Он ничего себе танцует...
с ним удобно... только ему надо начать... Дарсье отлично танцует.
- У тебя очень милая манера, - бросила мать Зине.
- Наташа тоже хорошо танцует, - похвалила Зина, - только немножко
забегает...
- Я совсем не умею, - ответила Наташа, покраснев.
- Нет, ты очень мило, только торопиться не надо... Ты как-то всегда
прежде кавалера начинаешь... Вот, Тема, не хотел учиться танцевать, -
закончила Зина, обращаясь к брату, - а теперь бы тоже танцевал, как
Рыльский.
- А ты бы мог хорошо танцевать, - сказала Аглаида Васильевна.
У Темы в воображении представился он сам, танцующий, как Рыльский: он
даже почувствовал его pince-nez на своем носу, оправился и усмехнулся.
- Вот ты в эту минуту на Рыльского был похож, - вскрикнула Зина и
предложила: - Давай, Тема, я тебя сейчас выучу польку. Мама, играй.
И неожиданно, под музыку Аглаиды Васильевны, началась дрессировка
молодого медвежонка.
- Раз, два, три, раз, два, три! - отсчитывала Зина, приподняв кончик
платья и проделывая перед Темой па польки.
Тема конфузливо и добросовестно подпрыгивал. Наташа, сидя на диване,
смотрела на брата, и в ее глазах отражались и его конфузливость, и жалость к
нему, и какое-то раздумье, а Зина только изредка улыбалась, решительно
поворачивая брата за плечи, и приговаривала:
- Ну, ты, медвежонок!
- Ой, ой, ой! Четверть первого: спать! спать! - заявила Аглаида
Васильевна, поднявшись со стула, и, осторожно опустив крышку рояля, потушила
свечи.
Жизнь шла своим чередом. Компания ходила в класс, кое-как готовила свои
уроки, собиралась друг у друга и усиленно читала, то вместе, то каждый
порознь.
Карташев не отставал от других. Если для Корнева чтение было врожденною
потребностью в силу желания осмыслить себе окружающую жизнь, то для
Карташева чтение являлось единственным путем выйти из того тяжелого
положения "неуча", в каком он себя чувствовал.
Какой-нибудь Яковлев, первый ученик, ничего тоже не читал, был "неуч",
но Яковлев, во-первых, обладал способностью скрывать свое невежество, а
во-вторых, его пассивная натура и не толкала его никуда. Он стоял у того
окошечка, которое прорубали ему другие, и никуда его больше и не тянуло.
Страстная натура Карташева, напротив, толкала его так, что нередко действия
его получали совершенно непроизвольный характер. С такой натурой, с
потребностью действовать, создавать или разрушать - плохо живется
полуобразованным людям: demi-instruit - double sot*, - говорят французы, и
Карташев достаточно получил ударов на свою долю от корневской компании, чтоб
не стремиться страстно, в свою очередь, выйти из потемок, окружавших его.
Конечно, и читая, по множеству вопросов он был еще, может быть, в большем
тумане, чем раньше, но он уже знал, что он в тумане, знал путь, как
выбираться ему понемногу из этого тумана. Кое-что уж было и освещено. Он с
удовольствием жал руку простого человека, и сознание равенства не гнело его,
как когда-то, а доставляло наслаждение и гордость. Он не хотел носить больше
цветных галстуков, брать с туалета матери одеколон, чтоб надушиться, мечтать
о лакированных ботинках. Ему даже доставляло теперь особенное удовольствие -
неряшество в костюме. Он с восторгом прислушивался, когда Корнев, считая его
своим уже, дружески хлопал по плечу и говорил за него на упрек его матери:
______________
* Полуобразованный - вдвойне дурак (франц.).
Куда нам с суконным рылом!
Карташев в эту минуту был бы очень рад иметь самое настоящее суконное
рыло, чтоб только не походить на какого-нибудь франтоватого Неручева, их
соседа по имению.
Компания после описанного вечера, как ни весело провела время, избегала
под разными предлогами собираться в доме Аглаиды Васильевны. Аглаиду
Васильевну это огорчало, огорчало и Карташева, но он шел туда, куда шли все.
- Нет, я не сочувствую вашим вечерам, - говорила Аглаида Васильевна, -
учишься ты плохо, для семьи стал чужим человеком.
- Чем же я чужой? - спрашивал Карташев.
- Всем... Прежде ты был любящим, простым мальчиком, теперь ты чужой...
ищешь недостатки у сестер.
- Где же я их ищу?
- Ты нападаешь на сестер, смеешься над их радостями.
- Я вовсе не смеюсь, но если Зина видит свою радость в каком-нибудь
платье, то мне, конечно, смешно.
- А в чем же ей видеть радость? Она учит уроки, идет первой и полное
право имеет радоваться новому платью.
Карташев слушал, и в душе ему было жаль Зины. В самом деле: пусть
радуется своему платью, если оно радует ее. Но за платьем шло что-нибудь
другое, за этим опять свое, и вся сеть условных приличий снова охватывала и
оплетала Карташева до тех пор, пока он не восставал.
- У тебя все принято, не принято, - горячо говорил он сестре, - точно
мир от этого развалится, а все это ерунда, ерунда, ерунда... яйца выеденного
не стоит. Корнева ни о чем этом не думает, а дай бог, чтоб все такие были.
- О-о-о! Мама! Что он говорит?! - всплескивала руками Зина.
- Чем же Корнева так хороша? - спрашивала Аглаида Васильевна. - Учится
хорошо?
- Что ж учится? Я и не знаю, как она учится.
- Да плохо учится, - с сердцем пояснила Зина.
- Тем лучше, - пренебрежительно пожимал плечами Карташев.
- Где же предел этого лучше? - спрашивала Аглаида Васильевна, - быть за
неспособность выгнанной из гимназии?
- Это крайность: надо учиться середка наполовинку.
- Значит, твоя Корнева середка наполовинке, - вставляла Зина, - ни рыба
ни мясо, ни теплое ни холодное - фи, гадость!
- Да это никакого отношения не имеет ни к холодному, ни к теплому.
- Очень много имеет, мой милый, - говорила Аглаида Васильевна. - Я себе
представляю такую картину: учитель вызывает "Корнева!" Корнева выходит.
"Отвечайте!" - "Я не знаю урока". Корнева идет на место. Лицо у нее при этом
сияет. Во всяком случае, вероятно, довольное, пошлое. Нет достоинства!
Аглаида Васильевна говорит выразительно, и Карташеву неприятно и
тяжело: мать сумела в его глазах унизить Корневу.
- Она много читает? - продолжает мать.
- Ничего она не читает.
- И не читает даже...
Аглаида Васильевна вздохнула.
- По-моему, - грустно говорит она, - твоя Корнева пустенькая девчонка,
к которой только потому нельзя относиться строго, что некому указать ей на
ее пустоту.
Карташев понимает, на что намекает мать, и скрепя сердце принимает
вызов:
- У нее мать есть.
- Перестань, Тема, говорить глупости, - авторитетно останавливает мать.
- Ее мать такая же неграмотная, как наша Таня. Я сегодня тебе одену Таню, и
она будет такая же, как и мать Корнева. Она, может быть, очень хорошая
женщина, но и эта самая Таня при всех своих достоинствах все-таки имеет
недостатки своей среды, и влияние ее на свою дочь не может быть бесследным.
Надо уметь различать порядочную, воспитанную семью от другой. Не для того
дается образование, чтоб в конце концов смешать в кашу все то, что в тебя
вложено поколениями.
- Какими поколениями? Все от Адама.
- Нет, ты умышленно сам себя обманываешь; твои понятия о чести тоньше,
чем у Еремея. Для него не доступно, то что понятно тебе.
- Потому что я образованнее.
- Потому что ты воспитаннее... Образование одно, а воспитание другое.
Пока Карташев задумывался перед этими новыми барьерами, Аглаида
Васильевна продолжала:
- Тема, ты на скользком пути, и если твои мозги сами не будут работать,
то никто тебе не поможет. Можно выйти пустоцветом, можно дать людям обильную
жатву... Только ты сам и можешь помочь себе, и тебе больше, чем кому-нибудь,
грех: у тебя семья такая, какой другой ты не найдешь. Если в ней ты не
почерпнешь сил для разумной жизни, то нигде и никто их не даст тебе.
- Есть что-то выше семьи: общественная жизнь.
- Общественная жизнь, мой милый, это зал, а семья - это те камни, из
которых сложен этот зал.
Карташев прислушивался к таким разговорам матери, как удаляющийся
путник слушает звон родного колокола. Он звенит и будит душу, но путник идет
своей дорогой.
Карташеву и самому теперь приятно было, что не у него собирается
компания. Он любил мать, сестер, признавал все их достоинства, но душа его
рвалась туда, где весело и беззаботно авторитетная для самих себя компания
жила жизнью, какой хотела жить. Утром гимназия, после обеда уроки, а вечером
собрания. Не для пьянства, не для кутежа, а для чтения. Аглаида Васильевна
скрепя сердце отпускала сына.
Карташев уже раз навсегда завоевал себе это право.
- Я не могу жить, чувствуя себя ниже других, - сказал он матери с силой
и выразительностью, - а если меня заставят жить иной жизнью, то я сделаюсь
негодяем: я разобью свою жизнь...
- Пожалуйста, не запугивай, потому что я не из пугливых.
Но тем не менее с тех пор Карташев, уходя из дому, только заявлял:
- Мама, я иду к Корневу.
И Аглаида Васильевна обыкновенно с неприятным ощущением только кивала
головой.
IV
ГИМНАЗИЯ
В гимназии было веселее, чем дома, хотя гнет и требования гимназии были
тяжелее, чем требования семьи. Но там жизнь шла на людях. В семье каждого
интерес был только его, а там гимназия связывала интересы всех. Дома борьба
шла глаз на глаз, и интереса в ней было мало: все новаторы, каждый порознь в
своей семье, чувствовали свое бессилие, в гимназии чувствовалось такое же
бессилие, но тут работа шла сообща, был полный простор критики, и никому не
дороги были те, кого разбирали. Тут можно было без оглядки, чтоб не задеть
больного чувства того или другого из компании, примеривать тот теоретический
масштаб, который вырабатывала постепенно себе компания.
С точки зрения этого масштаба и относилась компания ко всем явлениям
гимназической жизни и ко всем тем, кто представлял из себя начальство
гимназии.
С этой точки зрения одни заслуживали внимания, другие - уважения,
третьи - ненависти и четвертые, наконец, не заслуживали ничего, кроме
пренебрежения. К последним относились все те, у которых в голове, кроме
механических своих обязанностей, ничего другого не было. Их называли
"амфибиями". Добрая амфибия - надзиратель Иван Иванович, мстительная амфибия
- учитель математики; не добрые и не злые: инспектор, учителя иностранных
языков, задумчивые и мечтательные, в цветных галстуках, гладко причесанные.
Они, казалось, сами сознавали свое убожество, и только на экзаменах их
фигуры обрисовывались на мгновение рельефнее, чтоб затем снова исчезнуть с
горизонта до следующего экзамена. Все того же директора любили и уважали,
хотя и считали его горячкой, способным сгоряча наделать много бестактностей.
Но как-то не обижались на него в такие минуты и охотно забывали его
резкости. Центром внимания компании были четверо: учитель латинского языка в
младших классах Хлопов, учитель латинского языка в их классе Дмитрий
Петрович Воздвиженский, учитель словесности Митрофан Семенович Козарский и
учитель истории Леонид Николаевич Шатров.
Молодого учителя латинского языка Хлопова, преподававшего в низших
классах, не любили все в гимназии. Не было большего удовольствия у
старшеклассников, как толкнуть нечаянно этого учителя и бросить ему
презрительно "виноват" или подарить его соответственным взглядом. А когда он
пробегал торопливо по коридору, красный, в синих очках, с устремленным
вперед взглядом, то все, стоя у дверей своего класса, старались смотреть на
него как можно нахальнее, и даже самый тихий, первый ученик Яковлев,
раздувая ноздри, говорил, не стесняясь, услышат его или нет:
- Это он красный оттого, что насосался кровью своих жертв.
А маленькие жертвы, плача и обгоняя друг друга, после каждого урока
высыпали за ним в коридор и напрасно молили о пощаде.
Насытившийся единицами и двойками учитель только водил своими
опьяненными глазами и спешил, не говоря ни одного слова, скрыться в
учительскую.
Нельзя сказать, чтоб это был злой человек, но вниманием его
пользовались исключительно оторопелые, и по мере того как эти жертвы под его
опекой пугались все больше и больше, Хлопов делался все нежнее к ним. И те,
в свою очередь, благоговели перед ним и в порыве экстаза целовали ему руки.
Хлопов и между учителями не пользовался симпатией, и кто из учеников
заглядывал во время рекреации в щелку учительской, всегда видел его одиноко
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)
Зина вскрикнула: «Ах! как похож!» Наташа весело рассмеялась и сразу сбросила с себя маску.
– Надо, Тёма, стараться держать себя лучше, – сказала Аглаида Васильевна, – ты страшно горбишься… Мог бы быть эффектнее всех своих товарищей.
– Ведь Тёма, если б хорошо держался, был бы очень представительный… – подтвердила Зина. – Что ж, правду сказать, он очень красив: глаза, нос, волосы…
Тёма конфузливо горбился, слушал с удовольствием и в то же время неприятно морщился.
– Ну, что ты, Тёма, точно маленький, право… – заметила Зина. – Но все это у тебя, как начнешь горбиться, точно пропадает куда-то… Глаза делаются просительными, точно вот-вот копеечку попросишь…
Зина засмеялась. Тёма встал и заходил по комнате. Он мельком взглянул на себя в зеркало, отвернулся, пошел в другую сторону, незаметно выпрямился и, направившись снова к зеркалу, мельком заглянул в него.
– А как ловко танцевать с Рыльским! – воскликнула Зина. – Не чувствуешь совсем…
– А с Семеновым я все сбивалась, – сказала Наташа.
– Семенову непременно надо от двери начинать. Он ничего себе танцует… с ним удобно… только ему надо начать… Дарсье отлично танцует.
– У тебя очень милая манера, – бросила мать Зине.
– Наташа тоже хорошо танцует, – похвалила Зина, – только немножко забегает…
– Я совсем не умею, – ответила Наташа, покраснев.
– Нет, ты очень мило, только торопиться не надо… Ты как-то всегда прежде кавалера начинаешь… Вот, Тёма, не хотел учиться танцевать, – закончила Зина, обращаясь к брату, – а если бы тоже танцевал, как Рыльский.
– А ты бы мог хорошо танцевать, – сказала Аглаида Васильевна.
У Тёмы в воображении представился он сам, танцующий, как Рыльский: он даже почувствовал его pince-nez на своем носу, оправился и усмехнулся.
– Вот ты в эту минуту на Рыльского был похож, – вскрикнула Зина и предложила: – Давай, Тёма, я тебя сейчас выучу польку. Мама, играй.
И неожиданно, под музыку Аглаиды Васильевны, началась дрессировка молодого медвежонка.
– Раз, два, три, раз, два, три! – отсчитывала Зина, приподняв кончик платья и проделывая перед Тёмой па польки.
Тёма конфузливо и добросовестно подпрыгивал. Наташа, сидя на диване, смотрела на брата, и в ее глазах отражались и его конфузливость, и жалость к нему, и какое-то раздумье, а Зина только изредка улыбалась, решительно поворачивая брата за плечи, и приговаривала:
– Ну, ты, медвежонок!
– Ой, ой, ой! Четверть первого: спать, спать! – заявила Аглаида Васильевна, поднявшись со стула, и, осторожно опустив крышку рояля, потушила свечи.
Жизнь шла своим чередом. Компания ходила в класс, кое-как готовила свои уроки, собиралась друг у друга и усиленно читала, то вместе, то каждый порознь.
Карташев не отставал от других. Если для Корнева чтение было врожденною потребностью в силу желания осмыслить себе окружающую жизнь, то для Карташева чтение являлось единственным путем выйти из того тяжелого положения «неуча», в каком он себя чувствовал.
Какой-нибудь Яковлев, первый ученик, ничего тоже не читал, был «неуч», но Яковлев, во-первых, обладал способностью скрывать свое невежество, а во-вторых, его пассивная натура и не толкала его никуда. Он стоял у того окошечка, которое прорубали ему другие, и никуда его больше и не тянуло. Страстная натура Карташева, напротив, толкала его так, что нередко действия его получали совершенно непроизвольный характер. С такой натурой, с потребностью действовать, создавать или разрушать – плохо живется полуобразованным людям: demi-instruit – double sot , – говорят французы, и Карташев достаточно получил ударов на свою долю от корневской компании, чтоб не стремиться страстно, в свою очередь, выйти из потемок, окружавших его. Конечно, и читая, по множеству вопросов он был еще, может быть, в большем тумане, чем раньше, но он уже знал, что он в тумане, знал путь, как выбираться ему понемногу из этого тумана. Кое-что уж было и освещено. Он с удовольствием жал руку простого человека, и сознание равенства не гнело его, как когда-то, а доставляло наслаждение и гордость. Он не хотел носить больше цветных галстуков, брать с туалета матери одеколон, чтоб надушиться, мечтать о лакированных ботинках. Ему даже доставляло теперь особенное удовольствие – неряшливость в костюме. Он с восторгом прислушивался, когда Корнев, считая его своим уже, дружески хлопал его по плечу и говорил за него на упрек его матери:
– Куда нам с суконным рылом!
Карташев в эту минуту был бы очень рад иметь самое настоящее суконное рыло, чтоб только не походить на какого-нибудь франтоватого Неручева, их соседа по имению.
Компания после описанного вечера, как ни весело провела время, избегала под разными предлогами собираться в доме Аглаиды Васильевны. Аглаиду Васильевну это огорчало, огорчало и Карташева, но он шел туда, куда шли все.
– Нет, я не сочувствую вашим вечерам, – говорила Аглаида Васильевна, – учишься ты плохо, для семьи стал чужим человеком.
– Чем же я чужой? – спрашивал Карташев.
– Всем… Прежде ты был любящим, простым мальчиком, теперь ты чужой… ищешь недостатки у сестер.
– Где же я их ищу?
– Ты нападаешь на сестер, смеешься над их радостями.
– Я вовсе не смеюсь, но если Зина видит свою радость в каком-нибудь платье, то мне, конечно, смешно.
– А в чем же ей видеть радость? Она учит уроки, идет первой и полное право имеет радоваться новому платью.
Карташев слушал, и в душе ему было жаль Зину. В самом деле: пусть радуется своему платью, если оно радует ее. Но за платьем шло что-нибудь другое, за этим опять свое, и вся сеть условных приличий снова охватывала и оплетала Карташева до тех пор, пока он не восставал.
– У тебя все принято, не принято, – горячо говорил он сестре, – точно мир от этого развалится, а все это ерунда, ерунда, ерунда… яйца выеденного не стоит. Корнева ни о чем этом не думает, а дай бог, чтоб все такие были.
– О-о-о! Мама! Что он говорит?! – всплескивала руками Зина.
– Чем же Корнева так хороша? – спрашивала Аглаида Васильевна. – Учится хорошо?
– Что ж учится? Я и не знаю, как она учится.
– Да плохо учится, – с сердцем пояснила Зина.
– Тем лучше, – пренебрежительно пожимал плечами Карташев.
– Где же предел этого лучше? – спрашивала Аглаида Васильевна, – быть за неспособность выгнанной из гимназии?
– Это крайность: надо учиться середка наполовинку.
– Значит, твоя Корнева середка наполовинке, – вставляла Зина, – ни рыба ни мясо, ни теплое ни холодное – фи, гадость!
– Да это никакого отношения не имеет ни к холодному, ни к теплому.
– Очень много имеет, мой милый, – говорила Аглаида Васильевна. – Я себе представляю такую картину: учитель вызывает: «Корнева!» Корнева выходит. «Отвечайте!» – «Я не знаю урока». Корнева идет на место. Лицо у нее при этом сияет. Во всяком случае, вероятно, довольное, пошлое. Нет достоинства!
Аглаида Васильевна говорит выразительно, и Карташеву неприятно и тяжело: мать сумела в его глазах унизить Корневу.
– Она много читает? – продолжает мать.
– Ничего она не читает.
– И не читает даже…
Аглаида Васильевна вздохнула.
– По-моему, – грустно говорит она, – твоя Корнева пустенькая девчонка, к которой только потому нельзя относиться строго, что некому указать ей на ее пустоту.
Карташев понимает, на что намекает мать, а скрепя сердце принимает вызов:
– У нее мать есть.
– Перестань, Тёма, говорить глупости, – авторитетно останавливает мать. – Ее мать такая же неграмотная, как наша Таня. Я сегодня тебе одену Таню, и она будет такая же, как и мать Корнева. Она, может быть, очень хорошая женщина, но и эта самая Таня при всех своих достоинствах все-таки имеет недостатки своей среды, и влияние ее на свою дочь не может быть бесследным. Надо уметь различать порядочную, воспитанную семью от другой. Не для того дается образование, чтоб в конце концов смешать в кашу все то, что в тебя вложено поколениями.
– Какими поколениями? Все от Адама.
– Нет, ты умышленно сам себя обманываешь; твои понятия о чести тоньше, чем у Еремея. Для него не доступно то, что понятно тебе.
– Потому что я образованнее.
– Потому что ты воспитаннее… Образование одно, а воспитание другое.
Пока Карташев задумывался перед этими новыми барьерами, Аглаида Васильевна продолжала:
– Тёма, ты на скользком пути, и если твои мозги сами не будут работать, то никто тебе не поможет. Можно выйти пустоцветом, можно дать людям обильную жатву… Только ты сам и можешь помочь себе, и тебе больше, чем кому-нибудь, грех: у тебя семья такая, какой другой ты не найдешь. Если в ней ты не почерпнешь сил для разумной жизни, то нигде и никто их не даст тебе.
– Есть что-то выше семьи: общественная жизнь.
– Общественная жизнь, мой милый, это зал, а семья – это те камни, из которых сложен этот зал.
Карташев прислушивался к таким разговорам матери, как удаляющийся путник слушает звон родного колокола. Он звенит и будит душу, но путник идет своей дорогой.
Карташеву и самому теперь приятно было, что не у него собирается компания. Он любил мать, сестер, признавал все их достоинства, но душа его рвалась туда, где весело и беззаботно авторитетная для самих себя компания жила жизнью, какой хотела жить. Утром гимназия, после обеда уроки, а вечером собрания. Не для пьянства, не для кутежа, а для чтения. Аглаида Васильевна скрепя сердце отпускала сына.
Карташев уже раз навсегда завоевал себе это право.
– Я не могу жить, чувствуя себя ниже других, – сказал он матери с силой и выразительностью, – а если меня заставят жить иной жизнью, то я сделаюсь негодяем: я разобью свою жизнь…
– Пожалуйста, не запугивай, потому что я не из пугливых.
Но тем не менее с тех пор Карташев, уходя из дому, только заявлял:
– Мама, я иду к Корневу.
И Аглаида Васильевна обыкновенно с неприятным ощущением только кивала головой.
ГИМНАЗИЯ
В гимназии было веселее, чем дома, хотя гнет и требования гимназии были тяжелее, чем требования семьи. Но там жизнь шла на людях. В семье каждого интерес был только его, а там гимназия связывала интересы всех. Дома борьба шла глаз на глаз, и интереса в ней было мало: все новаторы, каждый порознь в своей семье, чувствовали свое бессилие, в гимназии чувствовалось такое же бессилие, но тут работа шла сообща, был полный простор критики, и никому не дороги были те, кого разбирали. Тут можно было без оглядки, чтоб не задеть больного чувства того или другого из компании, примеривать тот теоретический масштаб, который вырабатывала постепенно себе компания.
С точки зрения этого масштаба и относилась компания ко всем явлениям гимназической жизни и ко всем тем, кто представлял из себя начальство гимназии.
С этой точки зрения одни заслуживали внимания, другие – уважения, третьи – ненависти и четвертые, наконец, не заслуживали ничего, кроме пренебрежения. К последним относились все те, у которых в голове, кроме механических своих обязанностей, ничего другого не было. Их называли «амфибиями». Добрая амфибия – надзиратель Иван Иванович, мстительная амфибия – учитель математики; не добрые и не злые: инспектор, учителя иностранных языков, задумчивые и мечтательные, в цветных галстуках, гладко причесанные. Они, казалось, сами сознавали свое убожество, и только на экзаменах их фигуры обрисовывались на мгновение рельефнее, чтоб затем снова исчезнуть с горизонта до следующего экзамена. Все того же директора любили и уважали, хотя и считали его горячкой, способным сгоряча наделать много бестактностей. Но как-то не обижались на него в такие минуты и охотно забывали его резкости. Центром внимания компании были четверо: учитель латинского языка в младших классах Хлопов, учитель латинского языка в их классе Дмитрий Петрович Воздвиженский, учитель словесности Митрофан Семенович Козарский и учитель истории Леонид Николаевич Шатров.
Молодого учителя латинского языка Хлопова, преподававшего в низших классах, не любили все в гимназии. Не было большего удовольствия у старшеклассников, как толкнуть нечаянно этого учителя и бросить ему презрительно «виноват» или подарить его соответствующим взглядом. А когда он пробегал торопливо по коридору, красный, в синих очках, с устремленным вперед взглядом, то все, стоя у дверей своего класса, старались смотреть на него как можно нахальнее, и даже самый тихий, первый ученик Яковлев, раздувая ноздри, говорил, не стесняясь, услышат его или нет:
– Это он красный оттого, что насосался кровью своих жертв.
А маленькие жертвы, плача и обгоняя друг друга, после каждого урока высыпали за ним в коридор и напрасно молили о пощаде.
Насытившийся единицами и двойками учитель только водил своими опьяненными глазами и спешил, не говоря ни одного слова, скрыться в учительскую.
Нельзя сказать, чтоб это был злой человек, но вниманием его пользовались исключительно оторопелые, и по мере того как эти жертвы под его опекой пугались все больше и больше, Хлопов делался все нежнее к ним. И те, в свою очередь, благоговели перед ним и в порыве экстаза целовали ему руки. Хлопов и между учителями не пользовался симпатией, и кто из учеников заглядывал во время рекреации в щелку учительской, всегда видел его одиноко бегающим из угла в угол, с красным возбужденным лицом, с видом обиженного человека.
Он говорил быстро и слегка заикаясь. Несмотря на молодость, у него уже было порядочно отвислое брюшко.
Маленькие жертвы, умевшие плакать перед ним и целовать его руки, за глаза, пораженные, вероятно, несоответственностью его брюшка, называли его «беременной сукой».
В общем, это был тиран – убежденный и самолюбивый, про которого рассказывали, что на юбилее Каткова, когда того качали, он так подвернулся, что Катков очутился сидящим на его спине. Так и звали его поэтому в старших классах: катковский осел.
Учитель словесности, Митрофан Семенович Козарский, был маленький мрачный человек со всеми признаками злой чахотки. На голове у него была целая куча нечесаных, спутанных курчавых волос, в которые он то и дело желчно запускал свою маленькую, с пальцами врозь, руку. Он всегда носил темные, дымчатые очки, и только изредка, когда снимал их, чтобы протереть, ученики видели маленькие серые, злые, как у цепной собаки, глаза. Он и рычал как-то по-собачьи. Трудно было заставить его улыбнуться, но когда он улыбался, еще труднее было признать это за улыбку, точно кто насильно растягивал ему рот, а он всеми силами этому противился. Ученики хотя и боялись его, и зубрили исправно разные древние славянские красоты, но и пытались заигрывать с ним.
Такое заигрыванье редко сходило даром.
Однажды, как только кончилась перекличка, Карташев, считавший своею обязанностью во всем сомневаться, что, впрочем, выходило у него немного насильственно, встал и решительным, взволнованным голосом обратился к учителю:
– Митрофан Семенович! Для меня непонятно одно обстоятельство в жизни Антония и Феодосия.
– Какое-с? – сухо насторожился учитель.
– Я боюсь спросить вас, так оно несообразно.
– Говорите-с!
Козарский нервно подпер рукою подбородок и впился в Карташева.
Карташев побледнел и, не сводя с него глаз, высказал, хотя и путано, но в один залп, свои подозрения в том, что в назначении боярина Федора было пристрастие.
По мере того как он говорил, брови учителя подымались все выше и выше. Карташеву казалось, что на него смотрят не очки, а темные впадины чьих-то глаз, страшных и таинственных. Ему вдруг сделалось жутко от своих собственных слов. Он уж рад был бы и не говорить их, но все было сказано, и Карташев, замолчав, подавленный, растерянный, глупым, испуганным взглядом продолжал смотреть в страшные очки. А учитель все молчал, все смотрел, и только ядовитая гримаса сильнее кривила его губы.
Густой румянец залил щеки Карташева, и мучительный стыд охватил его. Наконец Митрофан Семенович заговорил тихо, размеренно, и слова его закапали, как кипяток, на голову Карташева:
– До такой гадости… до такой пошлости может довести человека желанье вечно оригинальничать…
Класс завертелся в глазах Карташева. Половина слов пролетела мимо, но довольно было и тех, которые попали в его уши. Ноги подкосились, и он сел, наполовину не сознавая себя. Учитель нервно, желчно закашлялся и схватился своей маленькой, растрепанной рукой за впалую грудь. Когда припадок прошел, он долго молча ходил по классу.
– В свое время в университете с вами подробно коснутся того печального явления в нашей литературе, которое вызвало и вызывает такое шутовское отношение к жизни.
Намек был слишком ясен и слишком обидным показался для Корнева.
– История нам говорит, – не утерпел он, бледнея и подымаясь с перекосившимся лицом, – что многое из того, что современникам казалось шутовским и не стоящим внимания, в действительности оказывалось совсем другим.
– Ну-с, а это не окажется, – круто повернул к нему свои темные очки учитель. – И не окажется по тому по самому, что это – история, а не передержка. Ну-с, во всяком случае, это не современная тема. Что задано?
Учитель погрузился в книгу, но сейчас же оторвался и снова заговорил:
– Мальчишеству нет места в истории. Пятьдесят лет тому назад живший поэт для понимания требует знания эпохи, а не выдергиванья его из нее и привлечения в качестве подсудимого на скамью современности.
– Но стихи этого поэта «Подите прочь» мы, современники, учим на память…
Митрофан Семенович высоко поднял брови, оскалил зубы и молча смотрел, как скелет в синих очках, на Корнева.
– Да-с, учите… должны учить… и если не будете знать, получите единицу… И не вашей-с компетенции это дело.
– Может быть, – вмешался Долба, – мы не компетентны, но хотим быть компетентными.
– Ну-с, Дарсье! – вызвал учитель.
Долба встретился глазами с Рыльским и пренебрежительно потупился.
Когда урок кончился, Карташев сконфуженно поднялся и вытянулся.
– Что, брат, отбрил тебя? – добродушно хлопнул его по плечу Долба.
– Отбрил, – неловко усмехнулся Карташев, – черт с ним.
– Да не стоит с ним и спорить, – согласился Корнев. – Что ж это за приемы? неграмотные, мальчишки… А если бы только его грамотой ограничивались, так были бы грамотные?
– Пожалуйста, не клади, – весело перебил его Рыльский, – потому что положишь и не подымешь.
Учитель истории Леонид Николаевич Шатров давно завоевал себе популярность между учениками.
Он поступил учителем в гимназию как раз в тот год, когда описываемая компания перешла в третий класс.
И своей молодостью, и мягкими приемами, и тем одухотворенным, что так тянет к себе молодые, нетронутые сердца, Леонид Николаевич постепенно привлек к себе всех, так что в старших классах ученики относились к нему и с уважением и с любовью. Одно огорчало их, что Леонид Николаевич славянофил, хотя и не «квасной», как пояснял Корнев, а с конфедерацией славянских племен, с Константинополем во главе. Это смягчало несколько тяжесть его вины, но все-таки компания становилась в тупик: не мог же он не читать Писарева, а если читал, то неужели же он так ограничен, что не понял его? Как бы то ни было, но ему извиняли даже славянофильство и урок его всегда ожидался с особым удовольствием.
Появление его неказистой фигуры, с большим широким лбом, длинными прямыми волосами, которые он то и дело закладывал за ухо, с умными, мягкими, карими глазами, всегда как-то особенно возбуждало учеников.
И его «пытали». То книжку Писарева нечаянно забудут на столе, то кто-нибудь пустит вскользь на тему из области общих вопросов, а то выскажет и связное соображение. Учитель выслушает, усмехнется, пожмет плечами и скажет:
– Сократитесь, почтеннейший!
А то заметит:
– Экие еще ребята!
И так скажет загадочно, что ученики не знают, радоваться им или печалиться, что они еще ребята.
Леонид Николаевич очень любил свой предмет. Любя, он заставлял и соприкасавшихся с ним любить то, что любил сам.
В тот урок, когда он, сделав перекличку, скромно подымался и, закладывая прядь волос за ухо, говорил, спускаясь с своего возвышения: «Я сегодня буду рассказывать», – класс превращался в слух и готов был слушать его все пять уроков подряд. И не только слушали, но и аккуратно записывали все его выводы и обобщения.
Манера говорить у Леонида Николаевича была какая-то особенная, захватывавшая. То, расхаживая по классу, увлеченный, он группировал факты, для большей наглядности точно хватая рукой их в кулак своей другой руки, то переходил к выводам и точно вынимал их из зажатого кулака взамен тех фактов, которые положил туда. И всегда получался ясный и логичный вывод, строго обоснованный.
В рамках научной постановки вопроса, более широкой, чем программа гимназического курса, ученики чувствовали себя и удовлетворенными и польщенными. Леонид Николаевич пользовался этим и организовал добровольную работу. Он предлагал темы, и желающие брались, руководствуясь указанными им источниками и своими, если боялись одностороннего освещения вопроса.
Так, в шестом классе одну тему – «Конфедерация славянских племен в удельный период» – долго никто не хотел брать. Решился наконец Берендя, выговорив себе право, что если, после знакомства с указанным учителем главным источником, Костомаровым, постановка вопроса ему не понравится, то он волен прийти к другому выводу.
– Обоснованному? – спросил Леонид Николаевич.
– Ко-конечно, – прижал Берендя свои пальцы к груди и поднялся, по обыкновению, на носки.
Однажды Леонид Николаевич пришел в класс против обыкновения расстроенный и огорченный.
Новый попечитель, осмотрев гимназию, остался недоволен некоторой распущенностью учеников и недостаточностью фактических знаний.
Между другими был вызван к попечителю и Леонид Николаевич, и прямо с объяснения, очевидно неблагоприятного для него, он пришел в класс.
Ученики не сразу заметили скверное расположение духа учителя.
Сделав перекличку, Леонид Иванович вызвал Семенова.
Ученики надеялись, что сегодняшний урок пройдет в рассказе.
Разочарование было неприятное, и все со скучными лицами слушали ответ Семенова.
Семенов тянул и старался выехать на общих местах.
Леонид Николаевич, наклонив голову, слушал, скучный, с болезненным лицом.
– Год? – спросил он, заметив, что Семенов уклонился от указания года.
Семенов сказал первый, подвернувшийся ему на язык, и соврал, конечно.
– Храбро, но Георгиевского креста не получите, – заметил полураздраженно, полушутя Леонид Николаевич.
– Он его получит при взятии Константинополя, – вставил Рыльский.
Леонид Николаевич нахмурился и опустил глаза.
– Никогда не получит, – задорно отозвался Карташев с своего места, – потому что федерация славянских племен с Константинополем во главе – неосуществимая ерунда.
– Вы, почтеннейший, сократитесь, – сказал Леонид Николаевич, поднимая на Карташева загоревшиеся глаза.
Карташев сконфузился и замолчал, но Корнев вступился за Карташева. Он проговорил язвительно и едко:
– Хороший способ полемизировать!
Леонид Николаевич побагровел, и жилы налились на его висках. Некоторое время длилось молчание.
– Корнев, станьте без места.
С третьего класса Леонид Николаевич никого не подвергал такому унизительному наказанию.
Корнев побледнел, и лицо его перекосилось.
Гробовое молчание воцарилось в классе.
Опять все смолкло. Что-то страшное надвинулось и вот-вот должно было воплотиться в какой-то непоправимый факт. Все напряженно ждали. Леонид Николаевич молчал.
– В таком случае прошу вас выйти из класса, – проговорил он, не поднимая глаз.
Точно камень свалился с плеч у каждого.
– Я не считаю себя виноватым, – заговорил Корнев. – Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что я не сказал ничего такого, чего бы вы не разрешили мне сказать в другое время. Но если вы признаете меня виноватым, то я пойду…
Корнев начал пробираться к выходу.
– Начертите карту Древней Греции, – вдруг сказал ему Леонид Николаевич, указывая на доску, когда Корнев проходил мимо него.
Вместо наказания Корнев принялся вырисовывать на доске заданное.
– Карташев! Причины и повод крестовых походов.
Это была благодарная тема.
Карташев по Гизо изложил обстоятельно причины и повод крестовых походов.
Леонид Николаевич слушал, и, по мере того как говорил Карташев, с лица его сбегало напряженное, неудовлетворенное чувство.
Карташев хорошо владел речью и нарисовал яркую картину безвыходного экономического положения Европы как результат произвола, насилия и нежелания своевольных вассалов считаться с назревшими нуждами народа… Приведя несколько примеров обострившихся до крайности отношений между высшим и низшим сословиями, он перешел к практической стороне дела: к поводу и дальнейшему изложению событий.
Леонид Николаевич слушал оживленную речь Карташева, смотрел в его возбужденно горевшие глаза от гордого сознания осмысленности и толковости своего ответа, – слушал, и им овладевало чувство, может быть, схожее с тем, какое испытывает хороший наездник, обучая горячую молодую лошадь и чуя в ней ход, который в будущем прославит и лошадь и его.
– Ну-с, прекрасно, – с чувством заметил Леонид Николаевич, – довольно.
– Рыльский, экономическое состояние Франции при Людовике Четырнадцатом.
В речи Рыльского не было тех ярких красок и переливов, какими красиво сверкала речь Карташева. Он говорил сухо, сжато, часто обрывал свои периоды звуком «э», вообще говорил с некоторым усилием. Но в группировке фактов, в наслоении их чувствовалась какая-то серьезная деловитость, и впечатление картины получалось не такое, может быть, художественное, как у Карташева, но более сильное, бьющее фактами и цифрами.
Леонид Николаевич слушал, и чувство удовлетворения и в то же время какой-то тоски светилось в его глазах.
– Кончил, – заявил Корнев.
Леонид Николаевич повернулся, быстро осмотрел исписанную им доску и сказал:
– Благодарю вас… садитесь.
Совершенно особого рода отношения существовали между учениками и учителем латинского языка Дмитрием Петровичем Воздвиженским.
Это был уж немолодой, с сильной проседью, красноносый человек, сутуловатый и сгорбленный, с голубыми глазами цвета нежного весеннего неба, составлявшими резкий контраст с угреватым лицом и щетинистыми, коротко подстриженными на щеках и бороде волосами. Эти волосы торчали грязной седоватой щетиной, а большие усы шевелились, как у таракана. Вообще «Митя» был неказист с виду, часто приходил в класс выпивши и обладал способностью действовать на своих учеников так, что те сразу превращались в первоклассников-мальчишек. И Писарев, и Шелгунов, и Щапов, и Бокль, и Дарвин сразу забывались на те часы, когда бывали уроки латинского языка.
Никому не было дела до политических убеждений Мити, но много дела было до его красного большого носа, маленьких серых глаз, которые по временам вдруг делались очень большими, до его сутуловатой фигуры.
Еще издали заметивший его идущим по коридору влетал в класс с радостным криком:
В ответ раздавался дружный рев сорока голосов. Подымалось вавилонское столпотворение: всякий по-своему, как хотел, спешил выразить свою радость. Ревели по-медвежьи, лаяли по-собачьи, кричали петухами, бил барабан. От избытка чувств вскакивали на скамьи, становились на голову, лупили друг друга по спинам, жали масло.
В дверях показывалась фигура учителя, и все мгновенно стихало, а затем, в такт его походки, все тихо, дружно приговаривали:
– Идут, идут, идут…
Когда он всходил на кафедру и останавливался вдруг у стола, все враз отрывочно вскрикивали:
– Пришли!
А когда он опускался на стул, все дружно кричали:
– И сели!
Водворялось выжидательное молчание. Нужно было выяснить вопрос: пьян Митя или нет?
Учитель принимал суровую физиономию и начинал щуриться. Это был хороший признак, и класс радостно, но нерешительно шептал:
– Щурится.
Вдруг он широко раскрывал глаза. Сомнения не было.
– Выкатил!! – раздавался залп всего класса.
Начиналась потеха.
Но учитель не всегда бывал пьян, и тогда при входе он сразу обрывал учеников, говоря скучным и разочарованным голосом:
– Довольно.
– Довольно, – отвечал ему класс и так же, как он, махал ручкой.
Затем следовало относительное успокоение, так как учитель хотя и был близорук, но так знал голоса, что, как бы ученики их ни меняли, всегда безошибочно угадывал виновника.
– Семенов, запишу, – отвечал он обыкновенно на какой-нибудь крик совы.
Если Семенов не унимался, то учитель и записывал его на лоскутке бумажки, причем говорил:
А класс на все лады повторял:
– Дайте мне клочок бумажки, – я вас запишу.
И все наперерыв спешили подать ему требуемое с тою разницею, что если он был трезв, то подавали бумагу, а если пьян, то несли, что могли: книги, шапки, перья – одним словом, все, только не бумагу.
Услыхали ученики, что учитель получил чин статского советника. В ближайший урок никто его иначе не называл, как «ваше превосходительство»… Причем каждый раз, как он собирался что-нибудь сказать, дежурный обращался к классу и испуганным шепотом говорил:
– Тс!.. Его превосходительство хотят говорить.
Известие, что Митя – жених, вызвало в учениках еще больший восторг. Это известие пришло как раз перед его уроком. Даже невозмутимый Яковлев, первый ученик, и тот поддался.
Рыльский согнул немного коленки, сгорбился, надул лицо и, приставив палец к губам, тихо, медленно, как надувшийся индюк, стал ходить, изображая Митю и приговаривая низким басом:
– Господа, надо почтить Митю, – предложил До лба.
– Надо, надо!
– Почтить Митю!
– Почтить! – подхватили со всех сторон и с жаром приступили к обсуждению программы празднества.
Решено было избрать депутацию, которая бы передала учителю поздравления класса. Выбрали Яковлева, Долбу, Рыльского и Берендю. Карташева забраковали по той причине, что он не выдержит и все дело испортит. Все было готово, когда в конце коридора появилась знакомая сутуловатая фигура учителя.
Долгополый форменный сюртук ниже колен, конусом вниз какие-то казацкие штаны, сверток под мышкой, густые волосы, щетина на щеках, колючая борода, торчащие усы и вся нахохлившаяся фигура учителя производила впечатление помятого после драки петуха. Когда он вошел, все чинно встали, и в классе воцарилась мертвая тишина.
Всех так и подмывало рявкнуть, потому что Митя был интереснее обыкновенного. Он шел, нацелившись, прямо к столу, неровно, быстро, стараясь соблюсти достоинство и стремительность в достижении цели, шел так, точно боролся с невидимыми препятствиями, боролся, одолевал и победоносно подвигался вперед.
Было очевидно, что на завтраке успели усердно поздравить жениха.
Лицо его было краснее обыкновенного: угри, налитый красный нос так и блестели.
– Просто хоть воду жми, – весело, громко заметил Долба, пожимая плечами.
– Есть что-то выше семьи: общественная жизнь.
– Общественная жизнь, мой милый, это зал, а семья – это те камни, из которых сложен этот зал.
Карташев прислушивался к таким разговорам матери, как удаляющийся путник слушает звон родного колокола. Он звенит и будит душу, но путник идет своей дорогой.
Карташеву и самому теперь приятно было, что не у него собирается компания. Он любил мать, сестер, признавал все их достоинства, но душа его рвалась туда, где весело и беззаботно авторитетная для самих себя компания жила жизнью, какой хотела жить. Утром гимназия, после обеда уроки, а вечером собрания. Не для пьянства, не для кутежа, а для чтения. Аглаида Васильевна скрепя сердце отпускала сына.
Карташев уже раз навсегда завоевал себе это право.
– Я не могу жить, чувствуя себя ниже других, – сказал он матери с силой и выразительностью, – а если меня заставят жить иной жизнью, то я сделаюсь негодяем: я разобью свою жизнь…
– Пожалуйста, не запугивай, потому что я не из пугливых.
Но тем не менее с тех пор Карташев, уходя из дому, только заявлял:
– Мама, я иду к Корневу.
И Аглаида Васильевна обыкновенно с неприятным ощущением только кивала головой.
IV
ГИМНАЗИЯ
В гимназии было веселее, чем дома, хотя гнет и требования гимназии были тяжелее, чем требования семьи. Но там жизнь шла на людях. В семье каждого интерес был только его, а там гимназия связывала интересы всех. Дома борьба шла глаз на глаз, и интереса в ней было мало: все новаторы, каждый порознь в своей семье, чувствовали свое бессилие, в гимназии чувствовалось такое же бессилие, но тут работа шла сообща, был полный простор критики, и никому не дороги были те, кого разбирали. Тут можно было без оглядки, чтоб не задеть больного чувства того или другого из компании, примеривать тот теоретический масштаб, который вырабатывала постепенно себе компания.
С точки зрения этого масштаба и относилась компания ко всем явлениям гимназической жизни и ко всем тем, кто представлял из себя начальство гимназии.
С этой точки зрения одни заслуживали внимания, другие – уважения, третьи – ненависти и четвертые, наконец, не заслуживали ничего, кроме пренебрежения. К последним относились все те, у которых в голове, кроме механических своих обязанностей, ничего другого не было. Их называли «амфибиями». Добрая амфибия – надзиратель Иван Иванович, мстительная амфибия – учитель математики; не добрые и не злые: инспектор, учителя иностранных языков, задумчивые и мечтательные, в цветных галстуках, гладко причесанные. Они, казалось, сами сознавали свое убожество, и только на экзаменах их фигуры обрисовывались на мгновение рельефнее, чтоб затем снова исчезнуть с горизонта до следующего экзамена. Все того же директора любили и уважали, хотя и считали его горячкой, способным сгоряча наделать много бестактностей. Но как-то не обижались на него в такие минуты и охотно забывали его резкости. Центром внимания компании были четверо: учитель латинского языка в младших классах Хлопов, учитель латинского языка в их классе Дмитрий Петрович Воздвиженский, учитель словесности Митрофан Семенович Козарский и учитель истории Леонид Николаевич Шатров.
Молодого учителя латинского языка Хлопова, преподававшего в низших классах, не любили все в гимназии. Не было большего удовольствия у старшеклассников, как толкнуть нечаянно этого учителя и бросить ему презрительно «виноват» или подарить его соответствующим взглядом. А когда он пробегал торопливо по коридору, красный, в синих очках, с устремленным вперед взглядом, то все, стоя у дверей своего класса, старались смотреть на него как можно нахальнее, и даже самый тихий, первый ученик Яковлев, раздувая ноздри, говорил, не стесняясь, услышат его или нет:
– Это он красный оттого, что насосался кровью своих жертв.
А маленькие жертвы, плача и обгоняя друг друга, после каждого урока высыпали за ним в коридор и напрасно молили о пощаде.
В книгу избранных произведений известного русского писателя Н.Г.Гарина-Михайловского вошли первые две повести автобиографической тетралогии «Детство Темы» и «Гимназисты», а также рассказы и очерки разных лет.
Детство Темы
Гимназисты
Рассказы и очерки
Под вечер
Бабушка Степанида
Дикий человек
Переправа через Волгу у Казани
Немальцев
Вальнек-Вальновский
Исповедь отца
Жизнь и смерть
Два мгновения
Дела. Наброски карандашом
Клотильда
ДЕТСТВО ТЁМЫ
Из семейной хроники
I
НЕУДАЧНЫЙ ДЕНЬ
Маленький восьмилетний Тёма стоял над сломанным цветком и с ужасом вдумывался в безвыходность своего положения.
Всего несколько минут тому назад, как он, проснувшись, помолился богу, напился чаю, причем съел с аппетитом два куска хлеба с маслом, одним словом – добросовестным образом исполнивши все лежавшие на нем обязанности, вышел через террасу в сад в самом веселом, беззаботном расположении духа. В саду так хорошо было.
Он шел по аккуратно расчищенным дорожкам сада, вдыхая в себя свежесть начинающегося летнего утра, и с наслаждением осматривался.
Вдруг… Его сердце от радости и наслаждения сильно забилось… Любимый папин цветок, над которым он столько возился, наконец расцвел! Еще вчера папа внимательно его осматривал и сказал, что раньше недели не будет цвести. И что это за раскошный, что это за прелестный цветок! Никогда никто, конечно, подобного не видал. Папа говорит, что когда гер Готлиб (главный садовник ботанического сада) увидит, то у него слюнки потекут. Но самое большое счастье во всем этом, конечно, то, что никто другой, а именно он, Тёма, первый увидел, что цветок расцвел. Он вбежит в столовую и крикнет во все горло:
– Махровый расцвел!
II
НАКАЗАНИЕ
Коротенькое следствие обнаруживает, по мнению отца, полную несостоятельность системы воспитания сына. Может быть, для девочек она и годится, но натуры мальчика и девочки – вещи разные. Он по опыту знает, что такое мальчик и чего ему надо. Система?! Дрянь, тряпка, негодяй выйдет по этой системе. Факты налицо, грустные факты – воровать начал. Чего еще дожидаться?! Публичного позора?! Так прежде он сам его своими руками задушит. Под тяжестью этих доводов мать уступает, и власть на время переходит к отцу.
Двери кабинета плотно затворяются.
Мальчик тоскливо, безнадежно оглядывается. Ноги его совершенно отказываются служить, он топчется, чтобы не упасть. Мысли вихрем, с ужасающей быстротой несутся в его голове. Он напрягается изо всех сил, чтобы вспомнить то, что он хотел сказать отцу, когда стоял перед цветком. Надо торопиться. Он глотает слюну, чтобы смочить пересохшее горло, и хочет говорить прочувствованным, убедительным тоном:
– Милый папа, я придумал… я знаю, что я виноват… Я придумал: отруби мои руки!..
Увы! то, что казалось так хорошо и убедительно там, когда он стоял пред сломанным цветком, здесь выходит очень неубедительно. Тёма чувствует это и прибавляет для усиления впечатления новую, только что пришедшую ему в голову комбинацию:
III
ПРОЩЕНИЕ
В то же время мать проходит в детскую, окидывает ее быстрым взглядом, убеждается, что Тёмы здесь нет, идет дальше, пытливо всматривается на ходу в отворенную дверь маленькой комнаты, замечает в ней маленькую фигурку Тёмы, лежащего на диване с уткнувшимся лицом, проходит в столовую, отворяет дверь в спальную и сейчас же плотно затворяет ее за собой.
Оставшись одна, она тоже подходит к окну, смотрит и не видит темнеющую улицу. Мысли роем носятся в ее голове.
Пусть Тёма так и лежит, пусть придет в себя, надо его теперь совершенно предоставить себе… Белье бы переменить… Ах, боже мой, боже мой, какая страшная ошибка, как могла она допустить это! Какая гнусная гадость! Точно ребенок сознательный негодяй! Как не понять, что если он делает глупости, шалости, то делает только потому, что не видит дурной стороны этой шалости. Указать ему эту дурную сторону, не с своей, конечно, точки зрения взрослого человека, с его, детской, не себя убедить, а его убедить, задеть самолюбие, опять-таки его детское самолюбие, его слабую сторону, суметь добиться этого – вот задача правильного воспитания.
Сколько времени надо, пока все это опять войдет в колею, пока ей удастся опять подобрать все эти тонкие, неуловимые нити, которые связывают ее с мальчиком, нити, которыми она втягивает, так сказать, этот живой огонь в рамки повседневной жизни, втягивает, щадя и рамки, щадя и силу огня – огня, который со временем ярко согреет жизнь соприкоснувшихся с ним людей, за который тепло поблагодарят ее когда-нибудь люди. Он, муж, конечно, смотрит с точки зрения своей солдатской дисциплины, его самого так воспитывали, ну и сам он готов сплеча обрубить все сучки и задоринки молодого деревца, обрубить, даже не сознавая, что рубит с ними будущие ветки…
Няня маленькой Ани просовывает свою по-русски повязанную голову.
IV
СТАРЫЙ КОЛОДЕЗЬ
Ночь. Тёма спит нервно и возбужденно. Сон то легкий, то тяжелый, кошмарный. Он то и дело вздрагивает. Снится ему, что он лежит на песчаной отмели моря, в том месте, куда их возят купаться, лежит на берегу моря и ждет, что вот-вот накатится на него большая холодная волна. Он видит эту прозрачную зеленую волну, как она подходит к берегу, видит, как пеной закипает ее верхушка, как она вдруг точно вырастает, подымается перед ним высокой стеной; он с замиранием и наслаждением ждет ее брызг, ее холодного прикосновения, ждет привычного наслаждения, когда подхватит его она, стремительно помчит к берегу и выбросит вместе с массою мелкого колючего песку; но вместо холода, того живого холода, которого так жаждет воспаленное от начинающейся горячки тело Тёмы, волна обдает его каким-то удушливым жаром, тяжело наваливается и душит… Волна опять отливает, ему опять легко и свободно, он открывает глаза и садится на кровати.
Неясный полусвет ночника слабо освещает четыре детских кроватки и пятую большую, на которой сидит теперь няня в одной рубахе, с выпущенной косой, сидит и сонно качает маленькую Аню.
– Няня, где Жучка? – спрашивает Тёма.
– И-и, – отвечает няня, – Жучку в старый колодезь бросил какой-то ирод. – И, помолчав, прибавляет: – Хоть бы убил сперва, а то так, живьем… Весь день, говорят, визжала, сердечная…
Тёме живо представляется старый заброшенный колодезь в углу сада, давно превращенный в свал всяких нечистот, представляется скользящее, жидкое дно его, которое иногда с Иоськой они любили освещать, бросая туда зажженную бумагу.
V
НАЕМНЫЙ ДВОР
Проходили дни, недели в томительной неизвестности. Наконец здоровый организм ребенка взял верх.
Когда в первый раз Тёма показался на террасе, похудевший, выросший, с коротко остриженными волосами, – на дворе уже стояла теплая осень.
Щурясь от яркого солнца, он весь отдался веселым, радостным ощущениям выздоравливающего. Все ласкало, все веселило, все тянуло к себе: и солнце, и небо, и видневшийся сквозь решетчатую ограду сад.
Ничего не переменилось со времени его болезни! Точно он только часа на два уезжал куда-нибудь в город.
Та же бочка стоит посреди двора, по-прежнему такая же серая, рассохшаяся, с еле держащимися широкими колесами, с теми же запыленными деревянными осями, мазанными, очевидно, еще до его болезни. Тот же Еремей тянет к ней ту же упирающуюся по-прежнему Буланку. Тот же петух озабоченно что-то толкует под бочкой своим курам и сердится по-прежнему, что они его не понимают.
ГИМНАЗИСТЫ
Из семейной хроники
I
ОТЪЕЗД СТАРЫХ ДРУЗЕЙ В МОРСКОЙ КОРПУС
Однажды осенью, когда на дворе уже пахло морозом, а в классах весело играло солнце и было тепло и уютно, ученики шестого класса, пользуясь отсутствием непришедшего учителя словесности, по обыкновению разбились на группы и, тесно прижавшись друг к другу, вели всякие разговоры.
Оживленнее других была и наиболее к себе привлекала учеников та группа, в центре которой сидели Корнев, некрасивый, с заплывшими глазками, белобрысый гимназист, и Рыльский, небольшой, чистенький, с самоуверенным лицом, с насмешливыми серыми глазами, в pince-nez на широкой тесемке, которую он то и дело небрежно закладывал за ухо.
Семенов, с простым, невыразительным лицом, весь в веснушках, в аккуратно застегнутом на все пуговицы и опрятном мундире, смотрел в упор своими упрямыми глазами на эти движения Рыльского и испытывал неприятное ощущение человека, перед которым творится что-нибудь такое, что хотя и не по нутру ему, но на что волей-неволей приходится смотреть и терпеть.
Это бессознательное выражение сказывалось во всей собранной фигуре Семенова, в его упрямом наклонении головы, в манере говорить голосом авторитетным и уверенным.
Речь шла о предстоящей войне. Корнев и Рыльский несколько раз ловко прошлись насчет Семенова и еще более раздражили его. Разговор оборвался. Корнев замолчал и, грызя, по обыкновению, ногти, бросал направо и налево рассеянные взгляды на окружавших его товарищей. Он уж несколько раз скользнул взглядом по фигуре Семенова и наконец проговорил, обращаясь к нему:
II
НОВЫЕ ДРУЗЬЯ И ВРАГИ
Тем и кончился вопрос о корпусе. Данилов и Касицкий уехали, и Карташев расстался с друзьями, с которыми три года прожил душа в душу.
Новое время, новые птицы, – новые птицы, новые песни. Новые отношения, странные и запутанные, на какой-то новой почве завязывались между Карташевым, Корневым и другими.
Это уже не была дружба, похожая на дружбу с Ивановым, основанная на обоюдной любви. Не было это похоже и на сближение с Касицким и Даниловым, где связью была общая их любовь к морю.
Сближение с Корневым было удовлетворением какой-то другой потребности. Лично Корнева Карташев не то что не любил, но чувствовал к нему какое-то враждебное, раздраженное, доходящее до зависти чувство, и все-таки его тянуло к Корневу. Не было больше для него удовольствия, как схватиться с ним на словах и как-нибудь порезче оборвать его. Но как ни казалось легким с первого взгляда это дело, тем не менее выходило всегда как-то так, что не он обрывал Корнева, а наоборот, он от Корнева получал очень неприятный отпор.
В своей компании с Даниловым и Касицким относительно Корнева у них давно был решен вопрос, что Корнев хотя и баба, хотя и боится моря, но не глупый и, в сущности, добрый малый.
III
МАТЬ И ТОВАРИЩИ
Дома Карташев умолчал и о Писареве, и о семействе Корнева. Пообедав, он заперся у себя в комнате и, завалившись на кровать, принялся за Писарева.
Раньше как-то он несколько раз принимался было за Белинского, но тот никакого интереса в нем не вызывал. Во-первых, непонятно было, во-вторых – все критика таких сочинений, о которых он не слыхал, а когда спрашивал мать, то она говорила, что книги эти вышли уже из употребления. Так ничего и не вышло из этого чтения. С Писаревым дело пошло совсем иначе: на каждом шагу попадались знакомые уже в речах корневской компании мысли, да и Писарев усвоялся гораздо легче, чем Белинский.
Когда Карташев вышел к чаю, он уж чувствовал себя точно другим человеком, точно вот одно платье сняли, а другое надели.
Принимаясь за Писарева, он уже решил сделаться его последователем. Но когда начал читать, то, к своему удовольствию, убедился, что и в тайниках души он разделяет его мнения. Все было так ясно, так просто, что оставалось только запомнить получше – и конец. Карташев вообще не отличался усидчивостью, но Писарев захватил его. Места, поражавшие его особенно, он перечитывал даже по два раза и повторял их себе, отрываясь от книги. Ему доставляла особенно наслаждение эта вдруг появившаяся в нем усидчивость.
Иногда он наталкивался на что-нибудь, с чем не соглашался, и решал обратить на это внимание Корнева. «Что ж, что не согласен? Сам Писарев говорит, что не желает слепых последователей».
IV
ГИМНАЗИЯ
В гимназии было веселее, чем дома, хотя гнет и требования гимназии были тяжелее, чем требования семьи. Но там жизнь шла на людях. В семье каждого интерес был только его, а там гимназия связывала интересы всех. Дома борьба шла глаз на глаз, и интереса в ней было мало: все новаторы, каждый порознь в своей семье, чувствовали свое бессилие, в гимназии чувствовалось такое же бессилие, но тут работа шла сообща, был полный простор критики, и никому не дороги были те, кого разбирали. Тут можно было без оглядки, чтоб не задеть больного чувства того или другого из компании, примеривать тот теоретический масштаб, который вырабатывала постепенно себе компания.
С точки зрения этого масштаба и относилась компания ко всем явлениям гимназической жизни и ко всем тем, кто представлял из себя начальство гимназии.
С этой точки зрения одни заслуживали внимания, другие – уважения, третьи – ненависти и четвертые, наконец, не заслуживали ничего, кроме пренебрежения. К последним относились все те, у которых в голове, кроме механических своих обязанностей, ничего другого не было. Их называли «амфибиями». Добрая амфибия – надзиратель Иван Иванович, мстительная амфибия – учитель математики; не добрые и не злые: инспектор, учителя иностранных языков, задумчивые и мечтательные, в цветных галстуках, гладко причесанные. Они, казалось, сами сознавали свое убожество, и только на экзаменах их фигуры обрисовывались на мгновение рельефнее, чтоб затем снова исчезнуть с горизонта до следующего экзамена. Все того же директора любили и уважали, хотя и считали его горячкой, способным сгоряча наделать много бестактностей. Но как-то не обижались на него в такие минуты и охотно забывали его резкости. Центром внимания компании были четверо: учитель латинского языка в младших классах Хлопов, учитель латинского языка в их классе Дмитрий Петрович Воздвиженский, учитель словесности Митрофан Семенович Козарский и учитель истории Леонид Николаевич Шатров.
Молодого учителя латинского языка Хлопова, преподававшего в низших классах, не любили все в гимназии. Не было большего удовольствия у старшеклассников, как толкнуть нечаянно этого учителя и бросить ему презрительно «виноват» или подарить его соответствующим взглядом. А когда он пробегал торопливо по коридору, красный, в синих очках, с устремленным вперед взглядом, то все, стоя у дверей своего класса, старались смотреть на него как можно нахальнее, и даже самый тихий, первый ученик Яковлев, раздувая ноздри, говорил, не стесняясь, услышат его или нет:
– Это он красный оттого, что насосался кровью своих жертв.
V
ЖУРНАЛ
Когда классы после вакаций только что начинались, рождество казалось таким далеким маяком среди однообразного, серого моря гимназической жизни.
Но вот и рождество: завтра сочельник и елка. Ветер гонит холодный снег по пустынным улицам и распахивает холодное форменное пальто Карташева, который один, не в обычной компании, спешит домой с последнего урока. Как быстро пролетело время. Где Данилов и Касицкий теперь? Море замерзло, вероятно. Давно, с тех пор как уехали друзья, не видал его Карташев.
Как переменилось все с тех пор. Совсем другая жизнь, другая обстановка. А Корнева? Неужели он влюблен? Да, влюблен безумно, и чего бы он не дал, чтоб быть всегда с ней, чтоб иметь право смотреть смело ей в глаза и говорить ей о своей любви. Нет, никогда не оскорбит он ее своим признанием, но он знает, что любит, любит и любит ее. А может быть, и она его любит?! Иногда она так заглядывает в глаза, что так и хочется схватить, обнять… Жарко Карташеву среди снежной метели: полурасстегнуто пальто, и, как во сне, шагает он по знакомым улицам. Давно уж он ходит по ним. И лето и зиму шагает. Какая-нибудь радостная мысль в голове свяжется с домом, на который упадет его взгляд, и этот дом и потом будит память. И мысль эта забудется, а дом все чем-то притягивает к себе. Вот на этом углу он как-то встретил ее, и она кивнула ему и улыбнулась так, как будто вдруг обрадовалась. Зачем он тогда не подошел к ней? Она оглянулась еще раз издали, и сердце его замерло и заныло, и рванулось к ней, но он испугался, что она вдруг догадается, зачем он стоит, и он быстро пошел с озабоченным лицом. Ну, а если б она и догадалась, что он любит ее? О, это была бы, конечно, такая дерзость, которую ни она, никто не простил бы ему. Узнали бы все, отказали бы от дома, а Корнев какими бы глазами посмотрел бы на него? Нет, не надо! И так хорошо: любить в своем сердце. Карташев оглянулся. Да, вот и рождество, две недели никаких уроков, на душе и пустота, и удовольствие праздника. Он всегда любил рождество, и память связывала в одно и елку, и подарки, и аромат апельсинов, и кутью, и тихий вечер, и груду лакомств. А там, на кухне, колядуют. Они приходят оттуда с своими незатейливыми лакомствами: орехи, рожки, винные ягоды, им дарят платья, вещи.
Так шло всегда, сколько он помнит себя. В ярких огнях елки и камина, сейчас же после ужина, опять вдруг вспомнится любимая кутья, и он весело бежит и возвращается с полной тарелкой, садится против камина и ест. Наташа, его поклонница, крикнет: «И я». За ней Сережа, Маня, Ася, и все опять тут с тарелками кутьи. Не выдержит и Зина. Всем весело и смешно, и мать, нарядная, довольная, ласково смотрит на них. Что ему в этом году подарят? – подумал Карташев, звоня у подъезда.